The Atlantic: версия исследователя
Отношение к пользовательскому опыту как к научной дисциплине – новая тенденция в медиаиндустрии. Американский журнал The Atlantic потратил два года на изучение читателей и слушателей подкастов, чтобы эффективнее развивать свой бизнес и свою журналистику.
Эмили Голигоски, исполнительный директор отдела исследований аудитории The Atlantic, рассказывает, что за это время они поговорили с тысячами нынешних, потенциальных и бывших подписчиков: «Мы знаем, что когда речь заходит о более специфичных темах, крайне интересных для определенной аудитории, такой контент работает замечательно. Мы по-прежнему являемся новостным журналом general interest, но освещение таких тем отличает нас от конкурентов. И нам нужно знать, что это за темы».
Редакция The Atlantic руководствуется сочетанием журналистского чутья, деловой хватки и понимания читателей, основанном на анализе данных, что позволяет принимать обоснованные решения, способствующие росту бренда.
«Возможность продемонстрировать, как мы создаем наш контент, и получить обратную связь имеет решающее значение, потому что наши читатели – это не мы, – говорит Голигоски. – Нам нужно узнать о них побольше. Только убедившись, что обратная в этом смысле работает, мы можем быть действительно продуктивными».
Методы и потребности
Голигоски вместе с еще одним штатным исследователем работает в тесном сотрудничестве с командой аналитиков данных, состоящей из пяти человек. Исследовательская группа в своей работе пользуется следующими инструментами:
-
Интервью. Отлично подходит для конкретного сегмента аудитории. Это хороший шанс разобраться в нюансах, понять проблемные моменты и оценить готовность платить.
-
Опросы. Хороши для сбора мнений пользователей из разных уголков страны по ключевым вопросам. Команда старается сократить время проведения опросов до четырех минут и делает их такими, чтобы их удобно было проходить с помощью смартфона.

-
Тестирование концепции и юзабилити. Хороший способ собрать реакцию на дизайн и использование продукта в процессе разработки.
-
Дневниковые исследования. Это отличный способ наблюдать за использованием шаблонов в течение определенного периода времени, например, недели или месяца. В этом процессе читатели The Atlantic, которые получают компенсацию за потраченное время, действуют как продвинутая фокус-группа: им предоставляется контент для анализа, прежде чем он будет опубликован в интернете. Это помогает Голигоски улучшить контент-предложение бренда. Такой метод особенно хорошо работает для подкастов.
Сбор информации о взаимодействии с приложениями, кроссвордами, подкастами и статьями помог исследовательской группе сформировать четкий набор потребностей аудитории:
-
потребность в ясности и более глубоком контексте;
-
потребность в поиске новых идей;
-
потребность в оспаривании предположений;
-
потребность в периодическом облегченном контенте;
-
потребность в знакомстве с ведущими журналистами издания.

Оправданные ожидания
Каковы потребности вашей аудитории? Ответ на этот вопрос для разных СМИ будет разный, в зависимости от того, для чего читатель приходит к ним – чтобы узнать о текущих событиях, последних новостях или глубоко разобраться в проблеме. По словам Голигоски, здесь можно использовать либо качественный, либо количественный подход к исследованию.
В первом случае стоит спросить группу пользователей, где именно бренд не оправдал их ожиданий, чтобы получить представление, почему люди не хотят подписываться или отменяют подписку. Это может быть вызвано несколькими причинами. Например, во время пандемии COVID-19 отношение людей к досугу и рабочему времени изменилось, многие перестали тратить время на дорогу до работы, а некоторые кардинально поменяли свой образ жизни и сферу деятельности.
Во втором случае нужно опросить максимально возможное количество пользователей из разных городов и регионов. Это также может способствовать выходу на новые рынки. Например, The Atlantic исторически был внутренним американским изданием, но в настоящее время журнал ищет новые территории для расширения. «Когда мы задаем вопросы о потребностях аудитории на новом для нас рынке, мы слышим, что бренд сильнее всего, когда он прямолинеен и способен выделиться из местного медиаландшафта», – отмечает Голигоски.
Это также может способствовать выходу на новые рынки. Например, The Atlantic исторически был внутренним американским изданием, но в настоящее время журнал ищет новые территории для расширения. «Когда мы задаем вопросы о потребностях аудитории на новом для нас рынке, мы слышим, что бренд сильнее всего, когда он прямолинеен и способен выделиться из местного медиаландшафта», – отмечает Голигоски.
Прозрачность и привлекательность
Голигоски вспоминает свой предыдущий опыт работы с Membership Puzzle Project, общественным исследовательским проектом, в рамках которого ее команда изучила работу 500 новостных СМИ, чтобы понять, что читатели дают и что они получают, поддерживая независимую журналистику.
Так что же отличает успешную новостную компанию? Голигоски выделяет несколько факторов:
-
Уникальный и сбалансированный контент. Команда Голигоски выслушала жалобы на новостные сайты, которые публикуют много похожих историй на одни и те же темы, перегружая их звуковыми фрагментами и отвлекающей рекламой.
Это помогло The Atlantic выделиться среди своих коллег и предложить комфортный пользовательский опыт и освещение тех тем, которые читатели не могли найти в других СМИ.
-
Прозрачность. После опроса читателей исследовательская группа поняла, что даже давним подписчикам трудно назвать более одного человека, стоящего за сайтом The Atlantic. «Это навело нас на мысль, что мы могли бы сделать наших сотрудников более заметными и узнаваемыми, – рассказывает Голигоски. – Мы все работаем над тем, чтобы стать более человечными и доступными. В мире, где СМИ по-прежнему часто ассоциируют с фейковыми новостями, быть подлинным и прозрачным – это мощный способ заявить о себе».
-
Дизайн бренда и визуальная привлекательность.
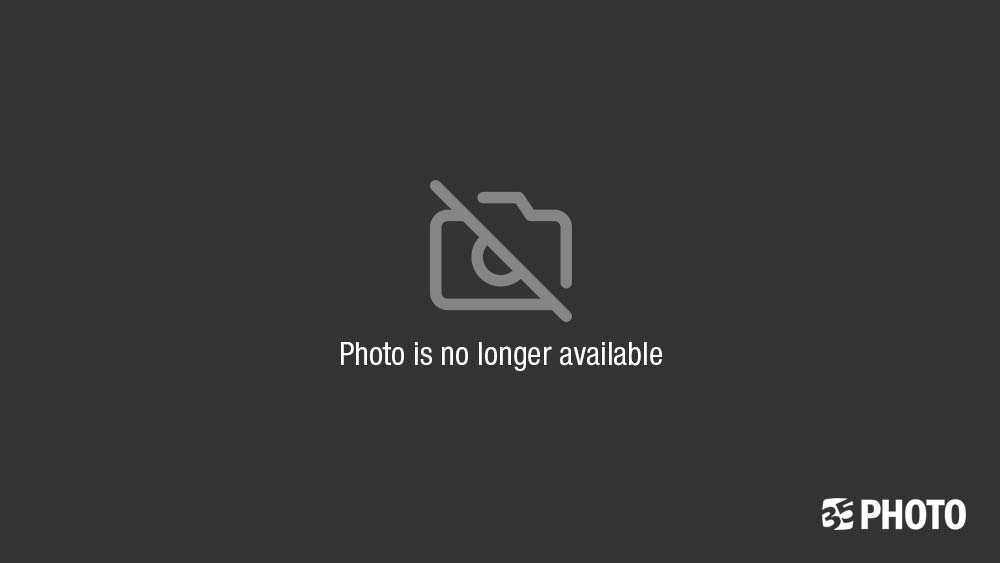
Параллельные потоки
Как правило, команда Голигоски участвует в двух потоках исследований и занимается тремя или четырьмя проектами. Первый – исследование конкретного продукта, которое охватывает тестирование концепции, валидацию и пошаговый анализ данных. Второй поток исследований, более перспективный для бизнеса, включает в себя отслеживание и изучение новых технологических тенденций, того, что происходит в журналистской индустрии, а также способов, с помощью которых компания может расти и охватывать новую аудиторию.
«Эти два потока параллельных исследований могут действительно плодотворно дополнять друг друга, – говорит Голигоски. – Конечно, мы не можем реализовать все, что хотели бы сделать. Поэтому мы предоставляем редакторам, журналистам, менеджерам по продуктам и дизайнерам возможность самостоятельно проводить свои исследования с помощью имеющихся под рукой инструментов, что делает нашу совместную работу еще эффективнее».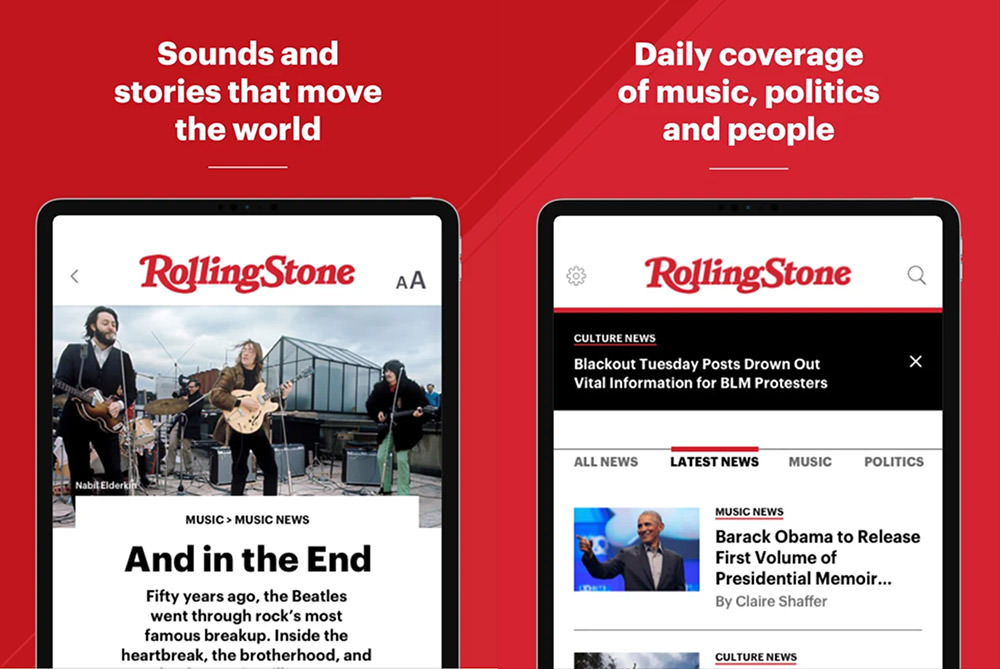
Неха Гупта, корреспондент WAN-IFRA
Скриншот: theatlantic.com
Материал опубликован в июньском номере журнала «Стратегии и практика издательского бизнеса. WAN-IFRA-ГИПП Magazine»
Все материалы свежего номера читайте здесь
Articles. Brands
По странам По алфавиту
Russia
Austria
Belgium
Russia
Alphatherm (9)
Che.Rad (3)
Gekon (2)
HeissKraft (1)
Koenner (2)
Neptun (3)
Эгопласт (21)Royal Thermo (8)
Teplocom (7)
TURKOV (1)
Ventrade (5)
Zilon (1)
Зиосаб (3)
Лиссант (1)
МИКРОАРТ (5)
РОСТерм (1)
Сигнал (5)
Энергофлекс (9)
BaltGaz (2)
Energoflex (1)
General Hydraulic (1)
Hot Stream (2)
Korf (2)
NEVA (8)
Rosinox (7)
Sahara Plus (2)
Thermex (3)
Uni-Fitt (1)
Wester (7)
АДЛ (3)
Вулкан (4)
Изотерм (4)
Лит (8)
Нева (2)
Руснит (3)
Эван (23)
Beril (4)
Exact (2)
Halsen (1)
Isea (2)
Lavart (1)
Pragma (4)
Rover (4)
Sanext (3)
Thermex Energy (1)
Valtec (22)
WHEIL (3)
АОГВ (8)
ЖМЗ (4)
Купол (5)
Макар (2)
ПЕНОПЛЭКС (1)
Северянин (1)
Экодар (2)
Austria
Austria Email (10)
Froeling (1)
Pipelife (6)
BWT (2)
HL (Hutererer and Lechner) (1)
Strebel (2)
Flamco (3)
Olimp (1)
Vogel & Noot (5)
Belgium
ACV (11)
Ridgid (17)
Henco (17)
Jaga (14)
Czech Republic
Denmark
China
Chigo (3)
Haier (16)
MDV (3)
General Climate (1)
Hisense (2)
Midea (7)
Gree (19)
Kelon (3)
Rotex (2)
Czech Republic
Dakon (6)
Karma (2)
Minib (1)
Sinclair (1)
Drazice (3)
Korado (15)
Mora (9)
Thermona (12)
ISAN (5)
Lifetech (1)
Opop (1)
Viadrus (6)
Denmark
Broen (8)
Devi (8)
Rockwool (15)
Danfoss (80)
Grundfos (160)
Dantherm (1)
Kamstrup (15)
Finland
France
Germany
Finland
Bauer Watertechnology (1)
Jaspi (9)
Purmo (15)
Vexve (2)
Ensto (5)
Naval OY (1)
Puzair OY (1)
Wirsbo (4)
Halton (4)
Oilon (1)
Uponor (23)
France
AERECO (3)
Atlantic (7)
Cuenod (3)
Glynwed pipesystem (1)
Saunier Duval (5)
Airelec (3)
Chaffoteaux (7)
De Dietrich (55)
Noirot (6)
Schneider Electric (3)
Airwell (2)
Chappee (4)
Frisquet (24)
Salmson (1)
Wesper (5)
Germany
ABIG (1)
Arbonia (5)
Becker Plastics (4)
Broetje (2)
Clage (6)
Dia Norm (4)
Eka (4)
Galant (1)
Grunbeck (1)
Hansgrohe (2)
Huch EnTEC (11)
Kampmann (2)
Klingenburg (1)
Koerting (3)
KSB (44)
Meibes (16)
Omax (1)
Pam-Global (4)
Reflex (5)
Rosenberg (4)
Saacke (1)
Sanha (3)
Siemens (39)
Technotherm (3)
TROX (10)
Viega (34)
Weishaupt (6)
Zehnder (16)
AEG Haustechnik (19)
Armacell (22)
Blue Box (1)
Buderus (67)
Copeland (3)
Dreizler (2)
Fraenkische Rohrwerke (2)
Giersch (9)
Halm (1)
Herz (10)
Jeremias (8)
Kermi (15)
KME (1)
Kroll (3)
Loos (4)
Menerga (1)
Ostendorf (2)
Raab (3)
REHAU (47)
Roth Werke (2)
Saint-Gobain (3)
Schiedel (2)
Stiebel Eltron (22)
Tecnair (3)
Unitherm (34)
Viessmann (84)
Wilo (44)
Ziehl-Abegg (2)
Aquatherm (8)
BAU-Trade (4)
Bosch (68)
BVC Siemens (1)
Düker (1)
Dungs (2)
Friatec (5)
Grohe (12)
Hansa (3)
HG-TEC (2)
Junkers (13)
Kessel (1)
Knauf (1)
Kronemark (1)
Mast (1)
Mohlenhoff (3)
Oventrop (15)
Rapido (4)
Rems (3)
Rothenberger (12)
Samson (1)
Sieger (1)
TECE (18)
Testo AG (24)
Vaillant (96)
Watts (3)
Wolf (34)
Hong Kong
Hungary
Israel
Hong Kong
Akira (8)
Ballu (7)
ballu machine (2)
Hungary
Gb-ganz (1)
Hajdu (4)
Termomax (3)
Israel
Atmor (4)
Electra (5)
Tadiran (3)
Netherlands
Italy
Aertecnica (5)
Baltur (2)
Beretta (9)
Bugatti (4)
Calpeda (1)
CIB Unigas (1)
Conti (1)
DeLonghi (8)
FAR (34)
Fondital (26)
Giacomini (54)
Icma (1)
K-flex (6)
Lu-Ve (1)
Prandelli (9)
Rhoss (2)
Royal Clima (5)
Seitron (3)
Speroni (1)
Tecnoclima (1)
Uniflair (2)
APEN Group (2)
Barbi (5)
Biasi (16)
C.
 M.T. clima (2)
M.T. clima (2)Carel (4)
Clint (5)
Coster (4)
Ecoflam (5)
FER (2)
Galletti (1)
Global (14)
Imas (2)
Lamborghini (12)
Nova Florida (4)
Radiatori (1)
Riello (4)
Rubinetterie Bresciane (4)
Sime (4)
Styleboiler (3)
Tiemme (4)
Valsir (2)
Ariston (39)
Baxi (71)
Bruno Balbo (1)
Caleffi (2)
Ciat (1)
Clivet (4)
DAB (21)
Emmeti (1)
Ferroli (27)
Garioni Naval (1)
Hermann (15)
Immergas (4)
Lowara (3)
Pedrollo (2)
RBM (6)
Robur (6)
Saer (1)
Sira (10)
Tartarini (1)
Unical (1)
Zilmet (1)
Japan
Daikin (22)
General (38)
Mitsubishi Electric (26)
Sanyo (29)
Fuji Electric (1)
Hitachi (10)
Mitsubishi Heavy Industries (24)
Sharp (2)
Fujitsu (6)
Kentatsu (4)
Panasonic (12)
Toshiba (42)
Netherlands
Akatherm (2)
Spirovent (8)
Wavin (4)
HORTEK (3)
Stelrad (2)
Rendamax (3)
Thermaflex (17)
Norway
Poland
Serbia
Norway
Nobo (1)
Varmeteknikk (2)
Oso (8)
Pyrox (8)
Poland
Biawar (5)
Kospel (13)
Ventus (1)
Euroheat (3)
Schlosser (2)
VTS (17)
KAN (10)
Termet (5)
Serbia
Majdanpek (1)
Slovakia
Slovenia
South Korea
Slovakia
Protherm (20)
Tatramat (3)
Slovenia
Gorenje (14)
South Korea
Daesung (1)
Kiturami (5)
Olympia (3)
Daewoo (5)
LG (85)
Rinnai (8)
Hyundai (4)
Navien (31)
Samsung (14)
Sweden
Switzerland
Spain
Arco (1)
Espa (4)
Roca (15)
Ursa (3)
Bofill (3)
Genebre (1)
S&P (3)
Domusa (3)
Orkli (1)
Ufesa (1)
Sweden
Alfa laval (9)
Electrolux (23)
Frico (8)
Nibe (12)
Systemair (28)
Xylem (4)
Bentone (3)
Elsen (1)
Gustavsberg (4)
Ostberg (4)
Timberk (4)
CTC (2)
Energotech (3)
Lindab (4)
Pahlen (1)
Veab (2)
Switzerland
Air-O-Swiss (3)
Boneco (1)
GF (Georg Fischer) (2)
Belimo (3)
Elco (9)
Hoval (4)
Biral (1)
Geberit (35)
Walter Meier (1)
Turkey
United Kingdom
United States
Turkey
Demir Dokum (10)
Firat (2)
Panelli (3)
STC (1)
Demrad (10)
Inka (3)
Pilsa (3)
Dizayn (1)
ODE (1)
Starpan (1)
United Kingdom
Dantex (3)
Redring (3)
Denco (1)
Thermoscreens (2)
Dimplex (7)
United States
American Water Heater (2)
Clack (1)
FlowGuard Gold (1)
McQuay (4)
Trane (6)
York (10)
Beam (1)
CyberPower (1)
Honeywell (14)
Reed (1)
Tranter (1)
Carrier (12)
Emerson (6)
Lennox (3)
Tesla Motors (1)
Vacuflo (2)
Canada
Moldova
Canada
Camus Hydronics (7)
Moldova
ALTAL (2)
«Она должна распасться» — EADaily — Новости США.
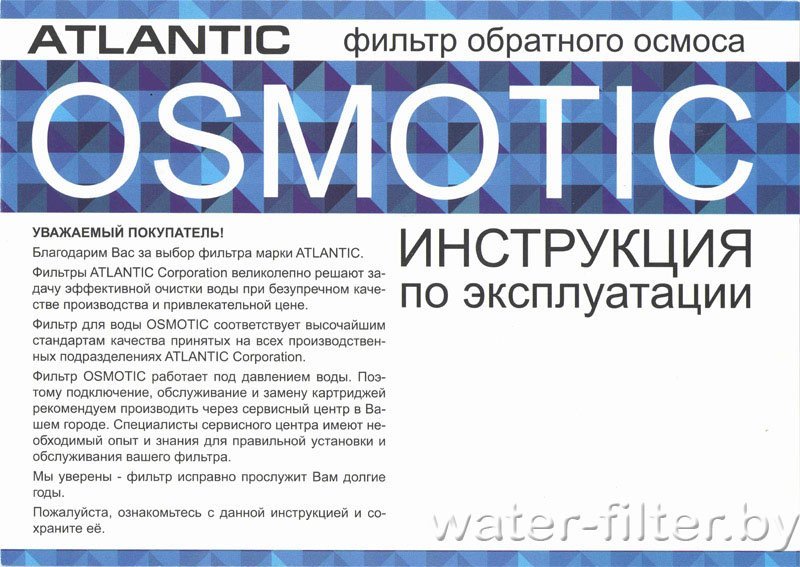 Новости России. США. Россия. Новости. Россия новости. США новости. Россия сегодня. США сегодня. Новости сегодня. Новости дня. Последние новости.
Новости России. США. Россия. Новости. Россия новости. США новости. Россия сегодня. США сегодня. Новости сегодня. Новости дня. Последние новости.Американский журнал The Atlantic разразился публикацией под заголовком «Деколонизировать Россию. Кремль должен потерять ту империю, которую он все еще сохраняет». Главный тезис статьи — Россия будет угрозой всему миру, пока удерживает в своем составе «колонизированные народы». Запад должен завершить проект, начатый в 1991 году, — Россия должна распасться.
«Деколонизация России не обязательно потребует ее полного демонтажа, как предлагал (Дик) Чейни (влиятельный республиканец, работал в администрациях четырех президентов США, был министром обороны, вице-президентом. — Ред.). Однако до тех пор, пока московская империя не будет свергнута, регион — и весь мир — не будут в безопасности. Европа останется нестабильной, а украинцы, русские и все колонизированные народы, вынужденные сражаться за Кремль, будут продолжать умирать.Кремль должен потерять ту империю, которую он все еще сохраняет. Проект деколонизации России должен быть наконец завершен», — говорится в статье.
Издание также напоминает слова другого политика — одного из ведущих идеологов внешней политики США, бывшего советника по нацбезопасности Збигнева Бжезинского, который однажды сказал:
«Это неправда, что без Украины Россия перестанет быть империей. Россия и без Украины остается беспорядочным объединением регионов и наций с чрезвычайно разнообразной историей, культурой и языками. Кремль продолжит править колониальными владениями в таких местах, как Чечня, Татарстан, Сибирь и Арктика».
The Atlantic отмечает, что «во время и после распада Советского Союза США отказались защищать недавно завоеванную независимость множества постсоветских государств, ссылаясь на неуместные опасения унизить Москву». По мнению издания, «ободренная пассивностью Запада, Москва начала возвращать утраченные земли».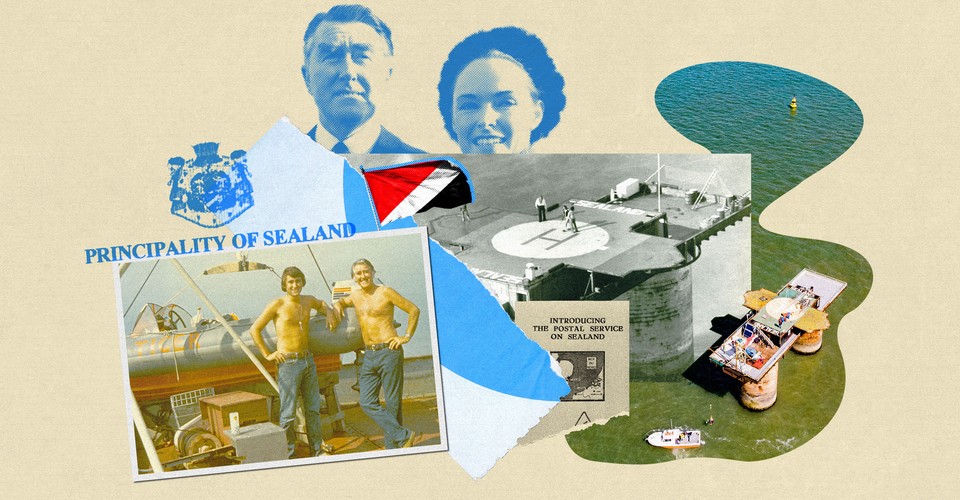
«И как только Украина предотвратит попытку России реколонизировать ее, Запад должен поддержать полную свободу для всех подданных российской империи», — пишет журнал.
Он утверждает, что у США и раньше был шанс развалить Российскую империю. Но, вместо того чтобы подавить имперские устремления России, когда у них была такая возможность, президент Джордж Буш — младший и его преемники просто наблюдали и надеялись на лучшее.
«У нас больше нет такой роскоши. Запад должен завершить проект, начатый в 1991 году. Мы должны стремиться к полной деколонизации России», — настаивают авторы статьи.
Они выдвигают свою версию, «почему именно Украина стала самым большим раздражителем Москвы, — не каждая из кремлевских колоний была так успешна в достижении независимости». «Множество наций — „автономных республик“ на русском языке — никогда не выходили из-под контроля Кремля», добавляют американские аналитики.
По их словам, «Чечня, например, пережила несколько ужасных войн после провозглашения независимости в начале 90-х годов», но, «вместо того чтобы признать борьбу чеченцев частью глобального стремления к деколонизации, (президент США) Билл Клинтон поддержал (президента РФ) Бориса Ельцина, несмотря на его жестокость».
В интерпретации публикаторов The Atlantic, «нация за нацией — Карелия, Коми, Саха, Башкортостан, Чувашия, Калмыкия, Удмуртия и многие другие — претендовали на суверенитет, когда советская империя рушилась». В качестве примера они приводят Татарстан, где, указывают они, «на референдуме 1992 года почти две трети населения проголосовали за суверенитет, республика была мотивирована годами сдерживаемого негодования против российского колониализма, но не нашла поддержки на Западе».
Как подчеркивается в статье, «Россия — не единственная многоязычная страна, которая не смогла справиться со своим наследием колонизации».
«В настоящее время Китай контролирует крупнейшую систему концентрационных лагерей, которую мир видел со времен Холокоста, направленную на уничтожение уйгуров как отдельной нации. Но именно Россия — и более конкретно российский империализм — представляет самую серьезную угрозу международной безопасности», — заключают американцы.
В этой связи EADaily обращает внимание на то, что президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что главная задача стран Запада — расколоть российское общество и разрушить Россию изнутри. В частности, говоря о специальной военной операции России на Украине, глава государства подчеркивал, что российское общество «проявляет зрелость, сплоченность, поддерживает наши вооруженные силы, поддерживает наши усилия, направленные на безусловное обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих на Донбассе».
В частности, говоря о специальной военной операции России на Украине, глава государства подчеркивал, что российское общество «проявляет зрелость, сплоченность, поддерживает наши вооруженные силы, поддерживает наши усилия, направленные на безусловное обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих на Донбассе».
С 24 февраля продолжается объявленная Путиным специальная военная операция России с целью демилитаризации и денацификации Украины. Решение принято в ответ на обращение руководителей республик Донбасса. Путин подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.
5 июня российский лидер заявил, что, если Соединенные Штаты будут поставлять Украине ракеты дальнего действия, Москва сделает выводы о нанесения ударов по новым объектам, которые еще не были атакованы:
«Ракеты тогда нужны, да. Но, если они будут и будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
Кремль. Путин».
Почему спор Believe и Atlantic Records важен для индустрии ♫ ИМИ.Журнал
На днях завершился судебный процесс по иску Believe к лейблу Atlantic Records Russia. В июле 2021-го компания обратилась в суд, когда узнала, что артист The Limba, ранее сотрудничавший с Believe, выпустит новый альбом «Anima» под брендом Atlantic. Второго февраля суд вынес решение и не удовлетворил иск Believe. Стороны прокомментировали «ИМИ.Журналу» исход дела, а юрист Вадим Хохлов объяснил, почему Believe было важно обратиться в суд и какое значение иск имеет для индустрии.
Что случилось
Как заявляет Believe, компания заключила с артистом The Limba договор, согласно которому она владеет преимущественным правом (оно позволяет получить определенные преимущества при заключении сделки. — Прим. «ИМИ.Журнала») на альбом «Anima». Поэтому Believe обвинила Atlantic Records Russia в переманивании музыканта и недобросовестной конкуренции. Но, как отмечают представители Atlantic Records, артист был вправе заключать лицензионные соглашения с другими лейблами, а сам The Limba уточняет, что выполнил все свои обязательства перед Believe. По итогам разбирательства суд не нашел в действиях Atlantic Records Russia признаков нарушения закона.
По итогам разбирательства суд не нашел в действиях Atlantic Records Russia признаков нарушения закона.
«Я очень рад решению суда и увлечен совместной работой с Atlantic Records Russia и его артистами. Мы отлично сотрудничали с Believe, выполнили все условия договора, но мы не хотели продолжать работать на тех же условиях. Believe перестали платить роялти по предыдущему моему альбому, хотя по ним у них нет ко мне никаких претензий. Хочу ли я дальше работать с таким дистрибьютором? Конечно, нет», — высказал мнение и сам The Limba.
Мы уточнили у представителей Believe, соответствует ли заявление артиста действительности, а также попросили их прокомментировать исход дела.
Основными принципами Believe являются прозрачность и честность в работе с партнерами, поэтому мы по-прежнему считаем, что практика переманивания артистов при действующих контрактах не способствует добросовестной конкуренции и нарушает базовые принципы бизнес этики и взаимоуважения в нашей индустрии.
Все текущие и последующие юридические шаги, которые предпринимает Believe, направлены исключительно на развитие и поддержку среды для здоровой конкуренции и защиту прав всех игроков рынка.
Мы выполнили все свои обязательства по договору с артистом. Более того, его новый альбом, вышедший на другом лейбле, был представлен ранее команде Believe и стриминговым платформам в рамках нашего договора. Поэтому еще раз хотим подчеркнуть, что заявления артиста не соответствуют действительности.
Советы музыкантам от главы российского подразделения Believe Виктории Синявской
Бахтияр Алиев (Bahh Tee)
глава Atlantic Records Russia
Не могу разглашать условия нашего сотрудничества с The Limba, это коммерческая тайна. Но суд изучил условия нашего договора и не счел, что мы недобросовестно переманили артиста лучшими условиями.
Этот иск имеет большое значение для индустрии, потому что такие дела редко доходят до суда. У нас не сильно большая судебная практика на эту тему, поэтому подобные иски говорят о том, что право работает и по части защиты артистов, бизнеса и музыкальной индустрии. Артисты и лейблы всегда могут пойти в суд — и государство будет на стороне правды.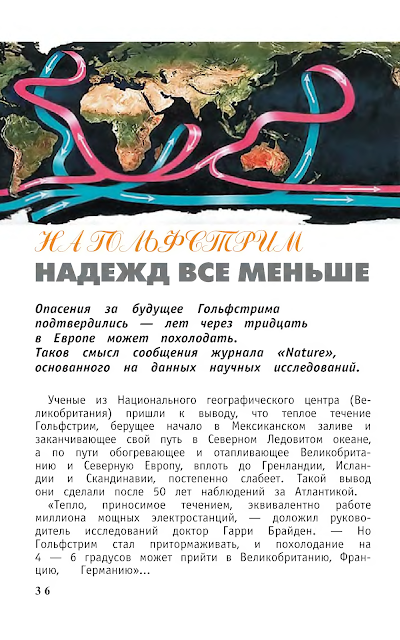
Я считаю, что конкуренция — это хорошо, она двигатель прогресса. Когда конкуренция становится недобросовестной? Например, когда лейбл знает, что у артиста есть обязательства перед другим лейблом, и все равно как третье лицо пытается туда влезть, начав работу с этим артистом, — это нездоровая конкуренция, на мой взгляд.
Но мы внимательно подходим к таким вещам. Я всегда лично общаюсь с артистами о возможностях будущего сотрудничества. И первое, о чем спрашиваю, — есть ли у них обязательства перед другими лейблами. Если да, насколько они долгие и когда закончатся. И если они скоро заканчиваются, мы можем поговорить о том, готов ли артист рассмотреть взаимодействие с нами после того, как выполнит все обязательства перед предыдущим лейблом. Это здоровая конкуренция.
Мы часто сталкиваемся с вопросами, когда артист приходит и говорит, что недоволен работой предыдущего лейбла или продюсера, просит помочь ему расторгнуть контракт, что-то еще. И в таких случаях мы обязаны действовать в рамках закона. И если артистов что-то не устраивает, они всегда могут обратиться в суд и решить вопрос в рамках закона. А после этого могут прийти к нам — и мы поговорим про сотрудничество.
И если артистов что-то не устраивает, они всегда могут обратиться в суд и решить вопрос в рамках закона. А после этого могут прийти к нам — и мы поговорим про сотрудничество.
В случае с The Limba история такая: естественно, мы спросили у его менеджмента, имеют ли они обязательства перед Believe. Они ответили, что все выполнили: в рамках соглашения они должны были Believe альбом, но он уже отдан компании. И в Believe уже решают, выпустить его или нет, а со стороны The Limba все в порядке. Получив эту информацию, мы сочли, что, раз артист не имеет никаких обязательств ни перед кем, мы имеем право заключить с ним контракт. Что и подтвердил суд.
В силу принципа состязательности сторон суд — это в каком-то смысле лотерея. Многое зависит от того, как стороны себя ведут во время процесса, как аргументируют свои позиции и какими доказательствами располагают. Поэтому, оценивая позицию заранее, всегда приходится делать поправку на то, что мы не знаем, какие у кого козыри в рукаве.
Если говорить субъективно, то позиция Believe с самого начала казалась несостоятельной и сомнительной.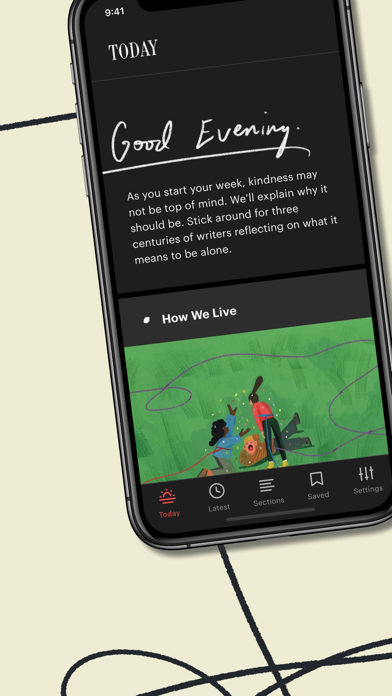 В данном случае вообще суд между лейблами выглядит достаточно бессмысленным. Atlantic Records Russia вряд ли насильно принудил или иным образом заставил артиста подписать договор, дабы переиграть всех на рынке. Они действовали вполне законно и добросовестно, и суд это подтвердил. Поэтому, с какой стороны ни заходи, все доводы Believe сводятся к тому, что именно артист заварил эту кашу по своей инициативе. У них было бы гораздо больше шансов разрешить конфликт в свою сторону, если бы иск был подан к артисту («ИМИ.Журнал» задал Believe вопрос по поводу иска к The Limba, но компания не включила ответ в свой комментарий. — Прим. «ИМИ.Журнала»).
В данном случае вообще суд между лейблами выглядит достаточно бессмысленным. Atlantic Records Russia вряд ли насильно принудил или иным образом заставил артиста подписать договор, дабы переиграть всех на рынке. Они действовали вполне законно и добросовестно, и суд это подтвердил. Поэтому, с какой стороны ни заходи, все доводы Believe сводятся к тому, что именно артист заварил эту кашу по своей инициативе. У них было бы гораздо больше шансов разрешить конфликт в свою сторону, если бы иск был подан к артисту («ИМИ.Журнал» задал Believe вопрос по поводу иска к The Limba, но компания не включила ответ в свой комментарий. — Прим. «ИМИ.Журнала»).
Но несмотря на то, что позицию, оглашенную представителями Believe, трудно одобрить, для музыкальной индустрии все-таки является плюсом, что у них не случился конфликт с артистом в публичном поле. Учитывая распространенный миф о том, что злые и суровые лейблы оставляют артистов ни с чем, выгоняя их на мороз без музыки, имени и последнего пуховика, радует сам факт, что недопонимание между артистом и лейблом не перетекло в судебное разбирательство.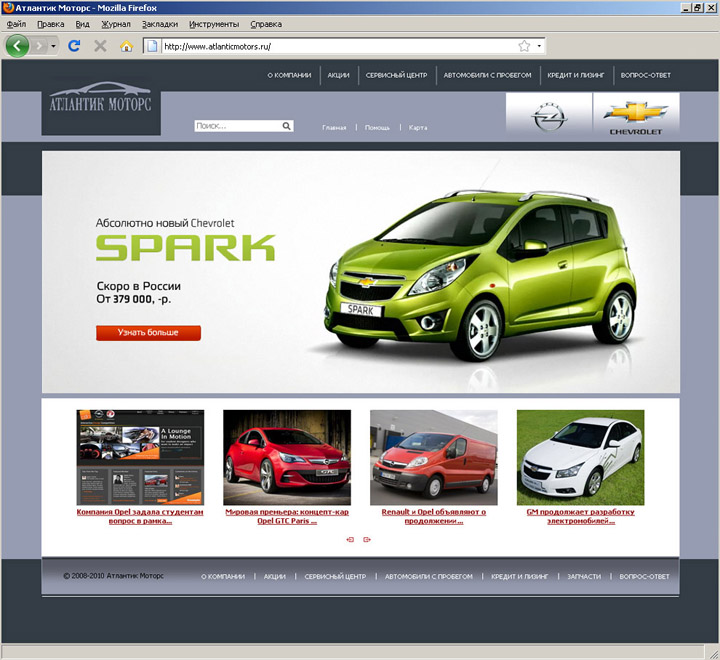
В попытках дать объяснение, зачем же все-таки Believe пошла на иск к лейблу (допуская, разумеется, что они оценивали свою позицию как достаточно шаткую), так или иначе придется прибегнуть к спекуляциям. И тут некоторые мои коллеги наверняка будут немногословны, ограничиваясь доводом, мол, и не такое выигрывали.
Однако я рискну предположить, что все дело в здравом смысле и репутации. Если допустить прецедент, что артист нарушает условие эксклюзивности (разумеется, если такое условие вообще есть) и уходит в другое место, то завтра этим будут промышлять десятки артистов, послезавтра — сотни, и так далее. И здравый смысл тут подсказывает, что нужна демонстрация силы. Необходимо показать наглядно, что у любого действия есть последствия, что лейбл готов отстаивать свое видение и свои права.
В конце концов, если вспоминать громкие дела, то когда-то давно «ВКонтакте» выиграл суд у тройки мейджоров (лейблы требовали удалить из соцсети и предотвратить повторную загрузку треков девяти артистов. Суд отклонил финансовые требования лейблов, но обязал «ВКонтакте» создать систему, препятствующую загрузке пиратского контента. — Прим. «ИМИ.Журнала»), однако в результате у нас появилось лицензирование музыки и стриминг. То есть мейджоры добились своего и отстояли свои права, даже несмотря на решение суда, однобоко подаваемое как СМИ, так и сарафанным радио.
Суд отклонил финансовые требования лейблов, но обязал «ВКонтакте» создать систему, препятствующую загрузке пиратского контента. — Прим. «ИМИ.Журнала»), однако в результате у нас появилось лицензирование музыки и стриминг. То есть мейджоры добились своего и отстояли свои права, даже несмотря на решение суда, однобоко подаваемое как СМИ, так и сарафанным радио.
В любом случае, даже если я не прав, отстаивать свои права необходимо, если это физически возможно. На газетных заголовках «Вася выиграл суд у Пети» истории не всегда заканчиваются.
Журнал Международная жизнь – Журнал «Atlantic» собрался «деколонизировать» Россию?
Вот так знаменитый художник ХХ века Сальвадор Дали изобразил утекающее время.
Фото из коллекции uhd.name
После того, как Запад наложил санкции на Россию, оказалось, что там из-за этого начался глубокий кризис в энергетической области, в снабжении продовольствием и в ряде чувствительных технологических процессах. Как минимум.
Как минимум.
Запад даже не мог предположить, насколько сильно и глубоко встроены российские экономика и внешняя торговля в мировые процессы. Разговоры о том, что «экономика России разорвана в клочья» дезориентировали сам Запад, и он попал в ловушку собственной пропаганды. Иллюзии разбились о жесткий быт…
Только что министр финансов США, в прошлом – руководитель частной фирмы под названием «Федеральная резервная система» (ФРС) – Джанет Йеллен, как говорится, «под давлением обстоятельств» признала, что – читаем и запоминаем: санкции (в отношении России), действительно, оказывают “огромное” влияние на стоимость продуктов питания и топлива. – Yellen acknowledged that the sanctions have had “a huge” effect on the global rise of the cost of food and energy. Но, вернемся к глобальным проблемам – американское признание (в частном случае) их не снимает (в целом).
На Западе сейчас все чаще заговорили о «конце эпохи», о конце сытой, комфортной для Европы эпохи, которая представляла собой «образец технического и социального прогресса». Фукуяма, который 30 лет назад предрек «конец Истории» и победу либерализма во всем мире, оказался плохим диалектиком и, видимо, плохо читал Гегеля. А ныне вопрос стоит совсем по-другому: «Конец Эпохи западного доминирования». И не меньше! А поскольку события нарастают, а Фукуяма молчит, надо бы всем Гегеля перечитать… Нет?
Фукуяма, который 30 лет назад предрек «конец Истории» и победу либерализма во всем мире, оказался плохим диалектиком и, видимо, плохо читал Гегеля. А ныне вопрос стоит совсем по-другому: «Конец Эпохи западного доминирования». И не меньше! А поскольку события нарастают, а Фукуяма молчит, надо бы всем Гегеля перечитать… Нет?
Европа в глазах народов с других континентов казалась «самодостаточной» и «сильной» – и это понятно с точки зрения психологии – европейцы всегда для этих людей были колонизаторами, а эти люди с других континентов сами оставались веками рабами в глазах «продвинутых европейцев». Однако, как выяснилось ныне (что, впрочем, не было особым историческим секретом), всё «процветание» евросчастливцев строилась на чужих ресурсах – грабеже территорий Африки, Азии и Южной Америки. Почему грабили? Так, своих нефти, газа, золота, минералов в Европе не было никогда в большом количестве. А большинства элементов таблицы Менделеева в Европе никогда и не бывало от слова «совсем».
Поэтому Европа в прошлые века и создала тот самый колониализм, который грабил весь мир, за счет чего сам Старый Свет жил значительно лучше, чем другие регионы планеты. Мало того, там выросла и укрепилась идеология, основанная на уверенности (вернее, самоуверенности), что европейцы, мол, это – «высшая раса», а люди с других мест Планеты – «раса низшая». Фашизм, как и колониализм – «дети» Европы. А концлагеря вообще англичане придумали, когда боролись против своих же европейцев – буров в Южной Африке на рубеже XIX-ХХ веков.
Мало того, там выросла и укрепилась идеология, основанная на уверенности (вернее, самоуверенности), что европейцы, мол, это – «высшая раса», а люди с других мест Планеты – «раса низшая». Фашизм, как и колониализм – «дети» Европы. А концлагеря вообще англичане придумали, когда боролись против своих же европейцев – буров в Южной Африке на рубеже XIX-ХХ веков.
У этих зловещих евродеятелей есть ещё одна абсолютно европейская коренная «забава», которую зовут «русофобия», и о которой мы напомнили в материале «Корни вековой русофобии Запада. Если разложить всё по полочкам» и в видео-программе «Анатомия русофобии».
И вот, после того, как эпоха колониализма – где-то к началу второй половины ХХ века – завершилась, ресурсы в Европу, без подпитки которыми она жить не может по определению, стали поступать по другим каналам. Прежде всего, это была неэквивалентная торговля с бывшими странами-колониями, у которых по дешевке скупались эти реальные ресурсы, а деньги для их оплаты печатались на Западе в неограниченных количествах. То есть, на том этапе Запад получал необходимые ему ценности в обмен на отпечатанные бумажки – реальные природные богатства уходили туда за… доллары и за евро. Как когда-то «за стеклянные бусы и огненную воду» европейцы в той же Южной Америке забирали себе золото. А тех, кто был не согласен, наказывали – что в Индии, что в Африке пулей в лоб.
То есть, на том этапе Запад получал необходимые ему ценности в обмен на отпечатанные бумажки – реальные природные богатства уходили туда за… доллары и за евро. Как когда-то «за стеклянные бусы и огненную воду» европейцы в той же Южной Америке забирали себе золото. А тех, кто был не согласен, наказывали – что в Индии, что в Африке пулей в лоб.
Вот как англичане расправлялись с восставшими протии в них сипаями в Индии. Историческая картина Верещагина известна многим, но вот эта гравюра с места расправы не столь знаменита, и очень показательна:
А бельгийские колонизаторы просто отрубали руки конголезским рабам, чтобы те горбатились на Брюссель. Тот самый Брюссель, который сейчас стал эпицентром европейской политики. Хорошенькое такое место:
Во второй половине ХХ века Европа оказалась отрезанной от колониальных ресурсов – колониальная система рухнула. После Второй Мировой войны был лукавый американский «План Маршалла», в рамках которого США начали восстанавливать экономику и саму послевоенную жизнь в Европе на… средства европейских стран, которые отправили в обстановке военного безумия свой золотой запас в Америку. Это золото стало гарантией для «американской помощи».
Это золото стало гарантией для «американской помощи».
И вот, после того, как колониальная эпоха осталась в прошлом, а «План Маршалла» иссяк, Европа бодро перешла на «кредитную экономику», продвинутую в жизнь американскими экономистами в 1980-х годах. Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер – главные действующие лица того перехода Запада на систему «жизни на займы». Да, благодаря ей, Европа, чтобы «красиво жить», продолжала пользоваться опять не своими, а чужими, ресурсами – на сей раз ресурсами банковской системы. Иных потенций у Европы не оказалось по определению, и вот сейчас этот период заканчивается, а заменить кредитную экономику нечем.
Существование «в долг» обычно плохо кончается. Мы писали про такой вариант развития событий, например, в материале «Жизнь взаймы? Нет, жизнь на займы!». И теперь всё сказанное там превращается из гипотез в реальность.
Более того, обнаружилось, что выстроенная за десятилетия в Европе «система удобства и благоденствия» держится на тех самых энергоносителях, которые просто обязаны быть дешёвыми — иначе прогрессу конец. А Вы знаете, что Россия годами поставляла в Европу газ в 5-6 раз дешевле, чем его покупали в Азии? Когда цена на газ – несколько лет назад – в ЕС была в районе 100-250 долларов, то в Азии в те же месяцы – стоимость этого энергоносителя доходила до 1 тысячи баксов за тот же объем… Только евросчастливцы весело «гудели» по кабакам, и про эту разницу даже не ведали. А, ведь, только и единственно по этой причине их продукция была конкурентоспособна в мире – в связи с низкими ценами на газ из России.
А Вы знаете, что Россия годами поставляла в Европу газ в 5-6 раз дешевле, чем его покупали в Азии? Когда цена на газ – несколько лет назад – в ЕС была в районе 100-250 долларов, то в Азии в те же месяцы – стоимость этого энергоносителя доходила до 1 тысячи баксов за тот же объем… Только евросчастливцы весело «гудели» по кабакам, и про эту разницу даже не ведали. А, ведь, только и единственно по этой причине их продукция была конкурентоспособна в мире – в связи с низкими ценами на газ из России.
Теперь стало ясно, что это Россия обеспечила евросчастливцам низкие цены на газ; что это Россия предоставляла большие преимущества для евро-продукции на мировом рынке; что более дешевая немецкая и проч. европейская продукция была конкурентоспособна на мировых рынках… только за счет кратно более низких цен на энергоресурсы, в частности, русский газ.
И теперь все эти конкурентные преимущества в Европе отправили… в утиль.
И теперь, выступив против России, Европа получила резкий рост цен на энергоресурсы, и, соответственно – рост себестоимости производимых там товаров и услуг.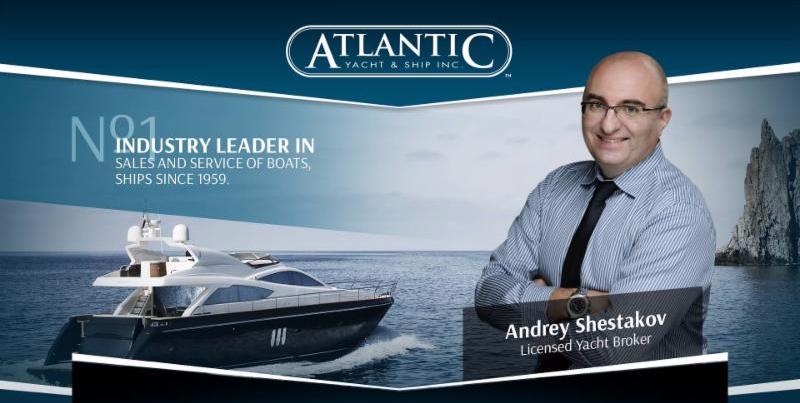 В результате уже сейчас Европа проигрывает Азии в конкурентной борьбе. Её товары, как прежде, уже не могут конкурировать с азиатскими за счет более низких цен.
В результате уже сейчас Европа проигрывает Азии в конкурентной борьбе. Её товары, как прежде, уже не могут конкурировать с азиатскими за счет более низких цен.
И это ещё – малая беда.
Большая Беда придет с ростом понимания в европейском бизнесе трагических перспектив закрытия их производств в связи с тем, что крупнейшим компаниям, не говоря уже о мельком бизнесе, не по силам терпеть кратное увеличение внутренних цен на газ и электричество. А электричество, напомним евросчастливцам, не из «розетки берется», как многие там полагают, а производится, в частности, из российских газа и нефти, от которых, как черти от Ладана, сторонятся евровласти. Но это – их выбор.
При этом евросчастливцы могут «вернуться в XIX век» со всеми его «прелестями» и проблемами, которые даже Бальзаку и Золя не снились… Западный мир рискует лишиться тепла и света, транспорта и инфраструктуры, а заодно и подвоза массы товаров, которые привык получать извне, а не производить на своей территории. Проблема с подвозом «комплектующих» – и для промышленности, и в агросекторе, и в производстве еды – то есть, проблема с разрушением «логистических цепочек» стала угрожающей.
«Неминуема катастрофическая, болезненная перестройка сознания европейцев», отмечается в комментарии коллег из «Фонда Стратегической Культуры», которые подали идею написать этот комментарий. «Сытая эпоха» сформировала у западников иллюзию «уверенности в завтрашнем дне», а теперь пришло время, когда эта иллюзия тает. Разумеется, в западном обществе ищут виновного, и виновной у них может быть, как обычно – только Россия.
Там договорились до того, что западники требует «деколонизировать Россию, завершив проект 1991 года». Напомним, что год 1991-й стал годом крушения Советского Союза.
Этот подлый тезис выдвинут в статье американского журнала «The Atlantic», автор которого пишет: «Бжезинский однажды сказал, что без Украины Россия перестанет быть империей. Это неправда. Россия и без Украины остается беспорядочным объединением регионов и наций с чрезвычайно разнообразной историей, культурой и языками. Кремль продолжит править колониальными владениями в таких местах, как Чечня, Татарстан, Сибирь и Арктика».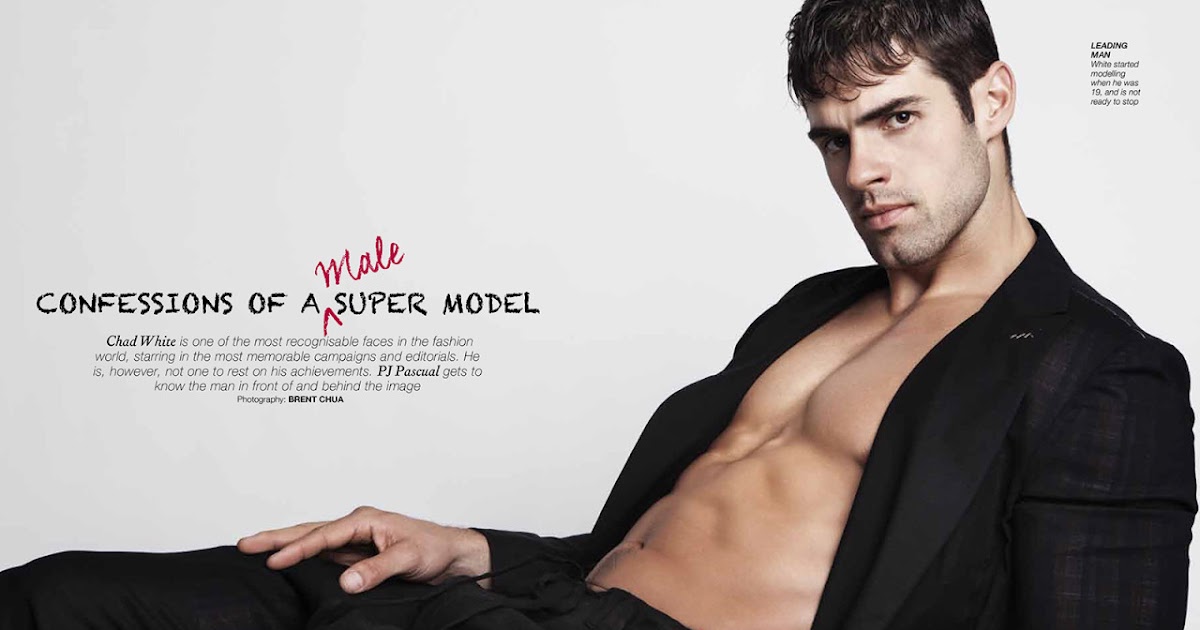 – «Zbigniew Brzezinski once said that without Ukraine, Russia would cease to be an empire. It’s a pithy statement, but it’s not true. Even if Vladimir Putin fails to wrest back Ukraine, his country will remain a haphazard amalgamation of regions and nations with hugely varied histories, cultures, and languages. The Kremlin will continue ruling over colonial holdings in places including Chechnya, Tatarstan, Siberia, and the Arctic».
– «Zbigniew Brzezinski once said that without Ukraine, Russia would cease to be an empire. It’s a pithy statement, but it’s not true. Even if Vladimir Putin fails to wrest back Ukraine, his country will remain a haphazard amalgamation of regions and nations with hugely varied histories, cultures, and languages. The Kremlin will continue ruling over colonial holdings in places including Chechnya, Tatarstan, Siberia, and the Arctic».
А слово-то это – «колониализм», ох, как хорошо на Западе-то знают.
И они там решили переложить на Россию свои собственные грехи – историческую вину и карму западных колонизаторов. Порыв «освободить колонии», страдающие под гнетом России», объясняется просто – они ничего иного и помыслить не могут! У них логика колониализма и грабежа чужих земель и народов – в подкорке прописана!
Поднявшаяся на грабеже, западная цивилизация не способна иметь иную идеологическую установку. У нас говорят «по себе о людях судят». Вот западники именно по себе и судят о России. Они не смотрят на Россию, они просто глядятся в зеркало и видят там своё отражение – пиратов и колонизаторов.
Они не смотрят на Россию, они просто глядятся в зеркало и видят там своё отражение – пиратов и колонизаторов.
Европе при её скудных ресурсах и невозможностью грабить бывшие колонии, всегда было необходимо победить Россию и забрать под свой контроль российские природные богатства. Это старая политика нищебродов Запада, которые мриют ради удовлетворения своих аппетитов вновь попробовать силой отнять кое-что у России, например, месторождения полезных ископаемых.
«У США и раньше был шанс развалить Российскую империю. Но вместо того, чтобы подавить имперские устремления России, когда у них была такая возможность, Буш и его преемники просто наблюдали и надеялись на лучшее. У нас больше нет такой роскоши. Запад должен завершить проект, начатый в 1991 году. Мы должны стремиться к полной деколонизации России», – пишет «The Atlantic». – «The West must complete the project that began in 1991. It must seek to fully decolonize Russia».
Если переделать знаменитую цитату из любимого фильма «В бой идут одни старики», то можно задать вопрос: «Они там, в «The Atlantic», все малахольные?» Они хоть понимают, о чем говорят? Или они своим колониальным аршином хотят Россию измерить?
Так, на себя бы лучше, господа, оборотиться, чем «ложные цели» выставлять. Там будто не видят, что нынешний кризис ведет к голоду на Западе? Да-да – к голоду, посмотрите на фотографии пустых полок их магазинов и послушайте признания англичан, что «многие семьи в Британии недоедают». «Люди могут обратиться к каннибализму из-за нехватки еды»:
Там будто не видят, что нынешний кризис ведет к голоду на Западе? Да-да – к голоду, посмотрите на фотографии пустых полок их магазинов и послушайте признания англичан, что «многие семьи в Британии недоедают». «Люди могут обратиться к каннибализму из-за нехватки еды»:
Как говаривал бравый солдат Швейк: «Что такое английский солдат без туалетной бумаги?» И он был прав…
Они там в ужасе. Они не хотят поверить, что придется прощаться со своим сытым благополучием, в котором Европа пребывала десятки лет и успела привыкнуть к мысли, что так будет всегда. Никакой другой ментальности, кроме подобной, Запад выработать не сумел. Зато он крепко сохранил память о собственном колониальном прошлом, и теперь эта память в извращенном виде выплеснулась на страницы «The Atlantic».
Да, у «цивилизованного мира» оказалось недостаточно ресурсов, чтобы обеспечить своим гражданам все блага, и там обнажились старые клыки мирового хищника: «…до тех пор, пока московская империя не будет свергнута, весь мир не будет в безопасности» («…until Moscow’s empire is toppled the world will not be safe» (sic!!!), – вещает «The Atlantic».
Так может выть только тяжело раненный зверь, которого загнали в угол. И он теперь очень опасен, хотя стал старым и ослабел – это, как волк Акела в сказке Киплинга про Маугли. Там, кстати, все хорошо закончилось, но не для Акелы с подвизгивающим шакалом Табаки и глупыми мартышками…
Нет сомнений, что Россия обломает этой публике последние клыки, если они посмеют пойти по предложенному пути. Им надо знать, что, сколько бы ни написали на Западе статей, подобных той, что опубликовал 7 июня 2022 года американский журнал «The Atlantic», Россию им не одолеть.
Времена меняются – время доминирования Запада уходит в Историю. Когда Сальвадор Дали представил свою знаменитую картину про «утекающее время» (образ которой – в начале статьи), это для зрителей казалось чем-то изысканно вычурным, даже вызывающе шокирующем. А вот как оно обернулось-то…
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
Читайте другие материалы журнала «Международная жизнь» на нашем канале Яндекс. Дзен.
Дзен.
Подписывайтесь на наш Telegram – канал: https://t.me/interaffairs
результаты рандомизированного исследования ATLANTIC (Administration of Ticagrelor in the Cath Lab or in the Ambulance for New
ГПР — гликопротеиновые рецепторы
КАКЗИ — коронарная артерия, кровоснабжающая зону инфаркта
КГ — коронарография
ОИМпST — острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST
ОКСбп ST — острый коронарным синдромом без подъема сегмента ST
ПДГ — прием на догоспитальном этапе
ПС — прием в стационаре
ТС — тромбоз стента
ЧВКА — чрескожное вмешательство на коронарных артериях
ЭКГ — электрокардиограмма
TIMI — Thrombolysis in Myocardial Infarction
Предпосылки к проведению исследования
Применение эффективной антиагрегантной терапии, подавляющей рецепторы тромбоксана обоих типов, необходимо у больных, которым выполняют чрескожные вмешательства на коронарных артериях (ЧВКА), особенно в случае развития острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST (ОИМпST). Результаты исследований, включавших таких больных, свидетельствовали о том, что более интенсивное подавление тромбоцитарных рецепторов P2Y12 за счет применения прасугрела, тикагрелора или кангрелора сопровождалось улучшением клинических исходов и снижением риска развития тромбоза стента (ТС) по сравнению с приемом клопидогрела [1—5]. Преимущества использования таких препаратов отмечались при назначении их во время пребывания больных в стационаре, так что оставалось неизвестным, будет ли более раннее начало применения указанных препаратов не менее безопасным и, возможно, более эффективным.
Результаты исследований, включавших таких больных, свидетельствовали о том, что более интенсивное подавление тромбоцитарных рецепторов P2Y12 за счет применения прасугрела, тикагрелора или кангрелора сопровождалось улучшением клинических исходов и снижением риска развития тромбоза стента (ТС) по сравнению с приемом клопидогрела [1—5]. Преимущества использования таких препаратов отмечались при назначении их во время пребывания больных в стационаре, так что оставалось неизвестным, будет ли более раннее начало применения указанных препаратов не менее безопасным и, возможно, более эффективным.
Гипотеза об эффективности применения антиагрегантов на догоспитальном этапе лечения больных, у которых предполагалось выполнение первичного ЧВКА, впервые изучалось в РКИ ингибитора гликопротеиновых рецепторов (ГПР) IIb/IIIa абсиксимаба, введение которого по сравнению с введением плацебо сопровождалось увеличением частоты достижения кровотока 3-й степени по классификации TIMI (Thrombolysis in Myocardial Infarction) до выполнения первичного ЧВКА и снижением частоты развития осложнений, связанных с ишемией [6]. Результаты дальнейших исследований подтвердили преимущества раннего применения ГПР IIb/IIIa у больных с ОИМпST, особенно в случае, когда они обращаются за медицинской помощью в очень ранние сроки после развития заболевания [7—11]. Однако преимущества такой тактики были менее определенными у больных с низким риском развития осложнений, связанных с ишемией, или в случаях более позднего обращения за медицинской помощью [12, 13].
Результаты дальнейших исследований подтвердили преимущества раннего применения ГПР IIb/IIIa у больных с ОИМпST, особенно в случае, когда они обращаются за медицинской помощью в очень ранние сроки после развития заболевания [7—11]. Однако преимущества такой тактики были менее определенными у больных с низким риском развития осложнений, связанных с ишемией, или в случаях более позднего обращения за медицинской помощью [12, 13].
Результаты нескольких исследований и мета-анализов позволяли предположить, что предварительное применение клопидогрела у больных с ОИМпST может снизить частоту развития осложнений, связанных с ишемией, в отсутствие увеличения риска развития кровотечений [14—16], но эффективность такой терапии может быть ограниченной из-за медленного начала действия клопидогрела и вариабельности ответной реакции на его прием. Напротив, прием новых антагонистов тромбоцитарных рецепторов P2Y12 приводит к подавлению функции тромбоцитов в течение менее 1 ч, т. е. в течение периода, который примерно соответствует продолжительности транспортировки больного для выполнения первичного ЧВКА [17, 18]. Хотя результаты некоторых исследований позволяли предположить, что для достижения полного влияния прасугрела или тикагрелора на функцию тромбоцитов у больных с ОИМпST может потребоваться несколько часов [19—21], по мнению авторов исследования, до последнего времени не оценивали влияние таких характеристик на частоту развития неблагоприятных исходов у больных с ОИМпST.
Хотя результаты некоторых исследований позволяли предположить, что для достижения полного влияния прасугрела или тикагрелора на функцию тромбоцитов у больных с ОИМпST может потребоваться несколько часов [19—21], по мнению авторов исследования, до последнего времени не оценивали влияние таких характеристик на частоту развития неблагоприятных исходов у больных с ОИМпST.
Тикагрелор представляет собой прямой ингибитор тромбоцитарных рецепторов P2Y12, после приема которого быстро развивается антитромбоцитарное действие [17, 22]. Результаты раннее выполненных исследований свидетельствовали о том, что применение тикагрелора по сравнению с клопидогрелом у больных с острым коронарным синдромом приводит к снижению частоты развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний [23], а также может положительно влиять на перфузию миокарда и прогноз у больных с ОИМпST, которым выполняют первичное ЧВКА [24].
Цель исследования
Проверить гипотезу о том, что прием тикагрелора в очень ранние сроки лечения больных с ОИМпST в период транспортировки в лечебное учреждение для выполнения первичного ЧВКА будет безопасно и приведет к улучшению перфузии миокарда.
Структура исследования
Международное рандомизированное двойное слепое исследование IV фазы; продолжительность наблюдения 30 дней.
Больные
В исследование включали больных, у которых по данным обследования персоналом бригады скорой помощи был диагностирован ОИМпST, продолжительность клинических проявлений которого достигала более 30 мин, но была менее 6 ч, если предполагаемая продолжительность периода между регистрацией первой электрокардиограммы (ЭКГ) и первым раздуванием баллона было менее 120 мин. Подробно исходные характеристики больных представлены в таблице.
Таблица. Исходные характеристики больных, включенных в исследование* Примечание. * — данные представлены как среднее ± стандартное отклонение, если не указано другое. ПДГ — прием на догоспитальном этапе; ПС — прием в стационаре; ИМТ — индекс массы тела; TIMI — Thrombolysis in Myocardial Infarction; ФК — функциональный класс; КГ — коронарография; ЧВКА — чрескожное вмешательство на коронарной артерии; КАКЗИ — коронарная артерия, кровоснабжающая зону инфаркта; СЛП — стент с лекарственным покрытием; ГМС — голометаллический стент; ГПР — гликопротеиновые рецепторы.
Вмешательство
Больных рандомизированно распределяли в группу приема тикагрелора на догоспитальном этапе лечения (группа приема на догоспитально этапе — ПДГ; прием препарата в машине скорой помощи) или группу приема тикагрелора после доставки больного в стационар (группа приема в стационаре — ПС; прием в рентгеноперационной) в дополнение к аспирину и стандартной терапии. Непосредственно после регистрации ЭКГ, на основании которой диагностировали ОИМпST, но до приема насыщающей дозы любого антагониста рецепторов P2Y12 больных рандомизировали и они принимали насыщающую дозу исследуемого препарата. После этого больных транспортировали в стационар для выполнения коронарографии (КГ), после которой ЧВКА могло выполняться или не выполняться.
В группе ПДГ больные принимали насыщающую дозу тикагрелора 180 мг до начала транспортировки в стационар, а затем в рентгеноперационной — плацебо к тикагрелору. В группе ПС до начала транспортировки принимали плацебо, а затем в рентгеноперационной — насыщающую дозу тикагрелора. После этого все больные принимали тикагрелор по 90 мг 2 раза в сутки в течение 30 дней, а также им рекомендовали продолжить применение тикагрелора до 12 мес. Введение ингибиторов ГПР IIb/IIIa в машине скорой помощи не рекомендовалось, но допускалось по усмотрению врача. В рентгеноперационной решение об использовании ГПР IIb/IIIa в качестве тактики первого ряда или вынужденной тактики в ходе выполнения ЧВКА должно было приниматься после выполнения ангиографии. В ходе выполнения дополнительной части исследования в 5 исследовательских центрах оценивали фармакодинамические показатели; причем основным показателем в такой части исследования были результаты оценки индекса реактивности тромбоцитов после стимуляции вазодилататором фосфопротеином в момент начала катетеризации (т.е. до выполнения ЧВКА), который измеряли с помощью реактива для определения степени фосфорилирования.
После этого все больные принимали тикагрелор по 90 мг 2 раза в сутки в течение 30 дней, а также им рекомендовали продолжить применение тикагрелора до 12 мес. Введение ингибиторов ГПР IIb/IIIa в машине скорой помощи не рекомендовалось, но допускалось по усмотрению врача. В рентгеноперационной решение об использовании ГПР IIb/IIIa в качестве тактики первого ряда или вынужденной тактики в ходе выполнения ЧВКА должно было приниматься после выполнения ангиографии. В ходе выполнения дополнительной части исследования в 5 исследовательских центрах оценивали фармакодинамические показатели; причем основным показателем в такой части исследования были результаты оценки индекса реактивности тромбоцитов после стимуляции вазодилататором фосфопротеином в момент начала катетеризации (т.е. до выполнения ЧВКА), который измеряли с помощью реактива для определения степени фосфорилирования.
Критерии оценки/Клинические исходы
Основные: доля больных, у которых до выполнения первичного ЧВКА: 1) регрессирование подъема сегмента ST от изоэлектрической линии не достигало 70% или более и/или 2) степень кровотока в коронарной артерии, кровоснабжающей зону инфаркта (КАКЗИ), не соответствовала 3-й степени по классификации TIMI. Дополнительные: комбинированный показатель частоты развития таких неблагоприятных клинических исходов, как смерть от любой причины, инфаркт миокарда, ТС, инсульт или выполнение неотложной реваскуляризации в течение 30 дней после рандомизации; частота развития определенного ТС в течение 30 дней после рандомизации; потребность в применении ингибиторов ГПР IIb/IIIa; частота достижения кровотока в КАКЗИ, которая соответствовала 3-й степени по классификации TIMI в конце ЧВКА; частота достижения полного (на 70% или более) регрессирования подъема сегмента ST от изоэлектрической линии к 60-й минуте после выполнения ЧВКА.
Дополнительные: комбинированный показатель частоты развития таких неблагоприятных клинических исходов, как смерть от любой причины, инфаркт миокарда, ТС, инсульт или выполнение неотложной реваскуляризации в течение 30 дней после рандомизации; частота развития определенного ТС в течение 30 дней после рандомизации; потребность в применении ингибиторов ГПР IIb/IIIa; частота достижения кровотока в КАКЗИ, которая соответствовала 3-й степени по классификации TIMI в конце ЧВКА; частота достижения полного (на 70% или более) регрессирования подъема сегмента ST от изоэлектрической линии к 60-й минуте после выполнения ЧВКА.
Показатели безопасности: частота развития тяжелого кровотечения; частота развития угрожающего жизни кровотечения; частота развития слабовыраженного кровотечения (кроме частоты кровотечений, связанных с выполнением коронарного шунтирования) в течение первых 48 ч и в течение 30 дней после рандомизации, которые оценивались по критериям TIMI, ISTH (International Society on Thrombosis and Haemostasis) и BARC (Bleeding Academic Research Consortium), а также по критериям, применявшимся в исследованиях PLATO (Study of Platelet Inhibition and Patient Outcomes), STEEPLE (Safety and Efficacy of Enoxaparin in Percutaneous Coronary Intervention Patients) и GUSTO (Global Utilization of Streptokinase and Tissue Plasminogren Activator for Occluded Coronary Arteries).
Ангиографические данные, а также записи ЭКГ анализировали централизованно с использованием слепого метода в лабораториях Cardialysis Core Laboratory services (Роттердам, Нидерланды) и eResearch Technology (ERT; Питерборо, Соединенное Королевство) соответственно.
Все случаи развития неблагоприятного клинического исхода рассматривались членами независимого комитета по подтверждению клинических диагнозов (за исключением случаев смерти и слабовыраженных кровотечений) в отсутствие информации о результатах распределения больных в группы вмешательства.
Методы статистического анализа
Было рассчитано, что исследование будет обладать 80% статистической мощностью для выявления различий между группами в 6% (относительные различия в 40%) по показателю частоты полного регрессирования подъема сегмента ST при допущении, что полное регрессирование подъема сегмента в группе ПС (т.е. в группе контроля, в которой больные принимали насыщающую дозу тикагрелора в стационаре) будет отмечаться у 15% больных. Следует также отметить, что исследование имело достаточную статистическую мощность для оценки различий между группами по частоте достижения кровотока в КАКЗИ 3-й степени по классификации TIMI.
Следует также отметить, что исследование имело достаточную статистическую мощность для оценки различий между группами по частоте достижения кровотока в КАКЗИ 3-й степени по классификации TIMI.
В анализ эффективности включали данные о больных, у которых предполагалось выполнение анализа исходя из допущения, что все больные принимали назначенное лечение, т. е. в группе больных, которые были рандомизированы и приняли хотя бы одну дозу исследуемого препарата. Из анализа двух основных показателей были исключены данные о больных, для которых не было информации либо о подъеме сегмента ST, либо о степени кровотока в КАКЗИ по классификации TIMI. Сравнение групп по каждому показателю выполняли с помощью логистической регрессионной модели с использованием тактики терапии в качестве исследуемого показателя. Для снижения общей частоты ошибки I типа до 5% при оценке двух основных показателей применяли процедуру Холма для проверки множественных сравнений, которая включала учет уровня статистической значимости и последовательности проверок.
Анализ в подгруппах больных с определенными характеристиками выполняли с помощью логистической регрессионной модели с учетом применяемой тактики лечения; характеристик больных, включенных в определенную подгруппу, а также взаимодействия между тактикой лечения и определенной подгруппой. Стандартизацию значения p для такого анализа не выполняли. Дополнительные показатели (частоту развития неблагоприятных клинических исходов, частоту регрессирования подъема сегмента ST и частоту достижения кровотока в КАКЗИ, соответствующего 3-й степени по классификации TIMI в конце вмешательства, а также потребность в применении ингибиторов ГПР IIb/IIIa анализировали с помощью методов, которые использовались для анализа двух основных показателей. Частоту развития неблагоприятных исходов в течение 30 дней после приема первой дозы исследуемого препарата оценивали с помощью метода Каплана—Мейера. Поскольку заранее не было выдвинуто определенных гипотез, статистический анализ всех дополнительных показателей эффективности, включая частоту развития неблагоприятных клинических исходов, считался поисковым, и иерархические правила для применяемых тестов или учет дополнительных факторов не применялись.
В анализ безопасности были включены данные обо всех больных, которые приняли хотя бы одну дозу исследуемого препарата. Данные о подтвержденных случаях развития кровотечений суммировали отдельно в соответствии с определением, указанным в протоколе (критерии кровотечения, применявшиеся в ходе выполнения исследования PLATO), а также другими заранее выбранными определениями.
Результаты
В период с 12 сентября 2011 г. по 3 октября 2013 г. в целом в исследование были включены 1875 больных, из которых 1862 подписали информированное согласие и были рандомизированно распределены в группу ПДГ (n=909) и группу ПС (n=953). Рандомизация выполнялась в 102 службах скорой помощи, а затем больных доставляли в 112 исследовательских центров, расположенных в 13 странах
Исходные характеристики больных двух групп в целом существенно не различались, за исключением небольшого и статистически незначимого различия между группой ПДГ и группой ПС по числу больных, у которых оценка риска развития неблагоприятного исхода по шкале TIMI достигала 6 баллов или более (таких больных с группе ПДГ и группе ПС было 2,2 и 1,6% соответственно). В целом первый контакт с медицинским работником у 75% больных был в машине скорой помощи; у остальных больных такой контакт был в отделении неотложной помощи до начала транспортировки в машине скорой помощи. КГ выполнялась преимущественно с использованием доступа через лучевую артерию (у 67,3% больных, которым выполняли КГ). Медиана продолжительности периода между развитием клинических проявлений заболевания до установления диагноза ОИМпST, между рандомизацией и выполнением КГ, а также приемом двух нагрузочных доз исследуемых препаратов (т.е. между приемом на догоспитальном этапе лечения и во время пребывания в стационаре) достигала 73, 48 и 31 мин соответственно. Первая и вторая насыщающая доза исследуемого препарата была назначена 99 и 95% больных соответственно и около 99% больных приняли хотя бы одну дозу аспирина. У большинства больных с подтвержденным диагнозом ОИМпST применялась поддерживающая терапия тикагрелором (у 85,6%) и аспирином (у 92,5%). Почти 30% больных вводили ингибитор ГПР IIb/IIIa.
В целом первый контакт с медицинским работником у 75% больных был в машине скорой помощи; у остальных больных такой контакт был в отделении неотложной помощи до начала транспортировки в машине скорой помощи. КГ выполнялась преимущественно с использованием доступа через лучевую артерию (у 67,3% больных, которым выполняли КГ). Медиана продолжительности периода между развитием клинических проявлений заболевания до установления диагноза ОИМпST, между рандомизацией и выполнением КГ, а также приемом двух нагрузочных доз исследуемых препаратов (т.е. между приемом на догоспитальном этапе лечения и во время пребывания в стационаре) достигала 73, 48 и 31 мин соответственно. Первая и вторая насыщающая доза исследуемого препарата была назначена 99 и 95% больных соответственно и около 99% больных приняли хотя бы одну дозу аспирина. У большинства больных с подтвержденным диагнозом ОИМпST применялась поддерживающая терапия тикагрелором (у 85,6%) и аспирином (у 92,5%). Почти 30% больных вводили ингибитор ГПР IIb/IIIa.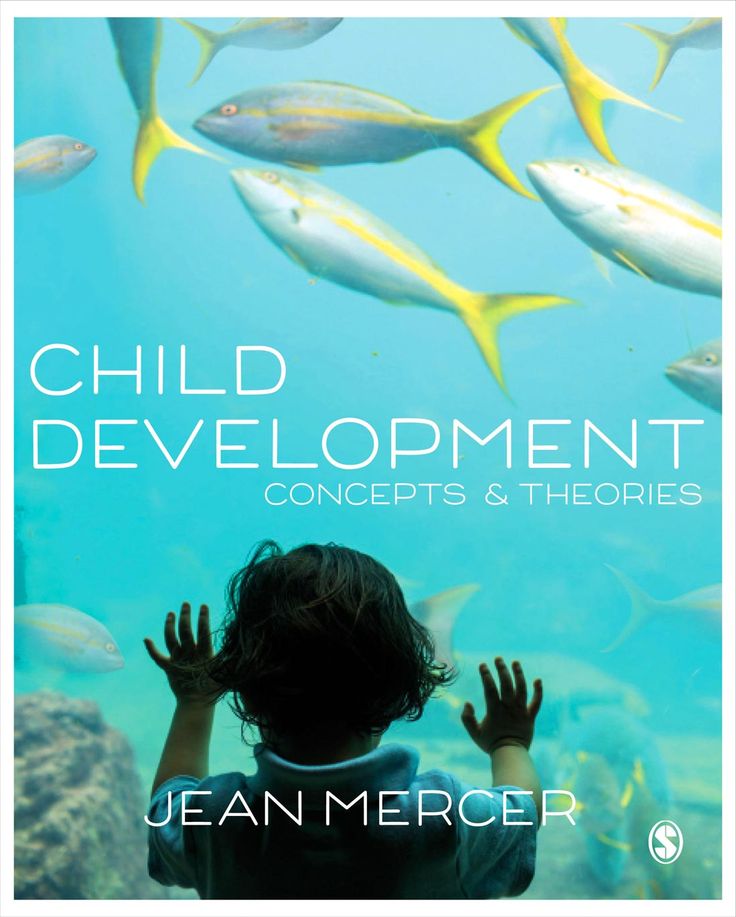
По данным части исследования с оценкой фармакодинамических показателей (n=37), в обеих группах после приема тикагрелора агрегация тромбоцитов снижалась статистически значимо и прогрессивно. Не было отмечено статистически значимых различий между группой ПДГ и группой ПС в какой-либо момент оценки агрегации тромбоцитов при максимально выраженных различиях через 1 ч после выполнения ЧВКА.
Не отмечено статистически значимых различий между группой ПДГ и группой ПС и по числу больных, у которых не было достигнуто регрессирование подъема сегмента ST от изоэлектрической линии на 70% или более до выполнения ЧВКА (ОШ=0,93 при 0,69 до 1,25; p=0,63), и по числу больных, у которых по данным первой КГ в КАКЗИ не достигался кровоток, соответствующий 3-й степени по классификации TIMI (ОШ=0,97 при 95% ДИ от 0,75 до 1,25; p=0,82). Регрессирование подъема сегмента ST на 70% или более через 1 ч после выполнения ЧВКА в группе ПДГ и группе ПС отсутствовало у 42,5 и 47,5% больных соответственно (p=0,055), а кровоток 3-й степени по классификации TIMI в КАКЗИ — у 17,8 и 19,6% больных соответственно (p=0,34). Такие результаты были устойчивыми для разных квартилей определенной продолжительности периода между приемом насыщающей дозы исследуемого препарата и регистрацией ЭКГ или выполнением КГ до ЧВКА, что соответствовало и различным периодам транспортировки больных. Кроме того, полученные результаты совпадали для обоих основных показателей и по данным анализа, выполненного в подгруппах больных с заранее определенными характеристиками, за исключением подгруппы больных, у которых применялся морфин. Причем было отмечено статистически значимое улучшение по основному показателю регрессирования сегмента ST при приеме тикагрелора на догоспитальном этапе лечения в подгруппе больных, у которых не применялся морфин (p=0,005 для взаимодействия).
Такие результаты были устойчивыми для разных квартилей определенной продолжительности периода между приемом насыщающей дозы исследуемого препарата и регистрацией ЭКГ или выполнением КГ до ЧВКА, что соответствовало и различным периодам транспортировки больных. Кроме того, полученные результаты совпадали для обоих основных показателей и по данным анализа, выполненного в подгруппах больных с заранее определенными характеристиками, за исключением подгруппы больных, у которых применялся морфин. Причем было отмечено статистически значимое улучшение по основному показателю регрессирования сегмента ST при приеме тикагрелора на догоспитальном этапе лечения в подгруппе больных, у которых не применялся морфин (p=0,005 для взаимодействия).
Не отмечалось статистически значимых различий между группами по комбинированному показателю общей смертности, а также частоты развития таких неблагоприятных исходов, как ИМ, инсульт, выполнение неотложной реваскуляризации или Т.С. Однако частота развития ТС статистически значимо снижалась в группе ПДГ по сравнению с группой ПС как в течение первых 24 ч после стентирования (ТС в группе ПДГ не развился ни у одного больного, а в группе ПС — у 8, или 0,8% больных; p=0,008 для точного критерия Фишера), так и в течение 30 дней после стентирования (ТС в группе ПДГ развился у 2, или 0,2%, больных, а в группе ПС у 11, или 1,2%, больных; p=0,02). В ходе выполнения анализа не удалось установить отчетливое взаимодействие между типом применяемого антикоагулянта и частотой развития ТС.
В ходе выполнения анализа не удалось установить отчетливое взаимодействие между типом применяемого антикоагулянта и частотой развития ТС.
В целом в группе ПДГ и группе ПС умерли 3,3 и 2% больных соответственно (p=0,08). Наиболее частой причиной смерти были кардиогенный шок, остановка кровообращения, механические осложнения и сердечная недостаточность.
Частота развития кровотечений, не связанных с выполнением коронарного шунтирования, была низкой в течение первых 48 ч после приема первой дозы, а также в течение периода между 48 ч и 30 днями и не различалась статистически значимо между группами. Результаты анализа частоты развития кровотечений были устойчивыми при использовании всех определений кровотечения и всех типов кровотечений, подтвержденных комитетом по подтверждению неблагоприятных клинических исходов. Не отмечалось статистически значимых различий при приеме нагрузочной дозы тикогрелора на догоспитальном этапе лечения или в стационаре в подгруппе больных, у которых не выполнялась реваскуляризация миокарда (11,1% больных) и в подгруппе больных, у которых окончательный диагноз ОИМST не подтверждался (8,6% больных). Не отмечалось и существенных различий между группами и по частоте развития тяжелых нежелательных явлений.
Не отмечалось и существенных различий между группами и по частоте развития тяжелых нежелательных явлений.
Выводы
Прием тикагрелора на догоспитальном этапе лечения больных с ОИМST представляется безопасным, но не приводит к улучшению реперфузии миокарда до выполнения первичного ЧВКА.
Комментарий
Имеются данные о том, что лечение больных с развивающимся ОИМпST на догоспитальном этапе с помощью фибринолитических средств или ГПР IIb/IIIa сопровождается улучшением перфузии миокарда и клинических исходов [6, 8, 25—28]. Результаты исследования ATLANTIC свидетельствуют о том, что применение мощного антагониста рецепторов тромбоцитарных P2Y12 тикагрелора незадолго до выполнения ЧВКА не приводит к улучшению реперфузии в КАКЗИ до выполнения вмешательства, но безопасно и может предупреждать развитие острого ТС. Полученные данные о преимуществах раннего приема тикагрелора для профилактики такого осложнения согласуются с результатами фармакодинамической части исследования и анализа динамики ЭКГ, которые позволяют предположить, что максимальный эффект приема тикагрелора на догоспитальном этапе достигается после выполнения ЧВКА.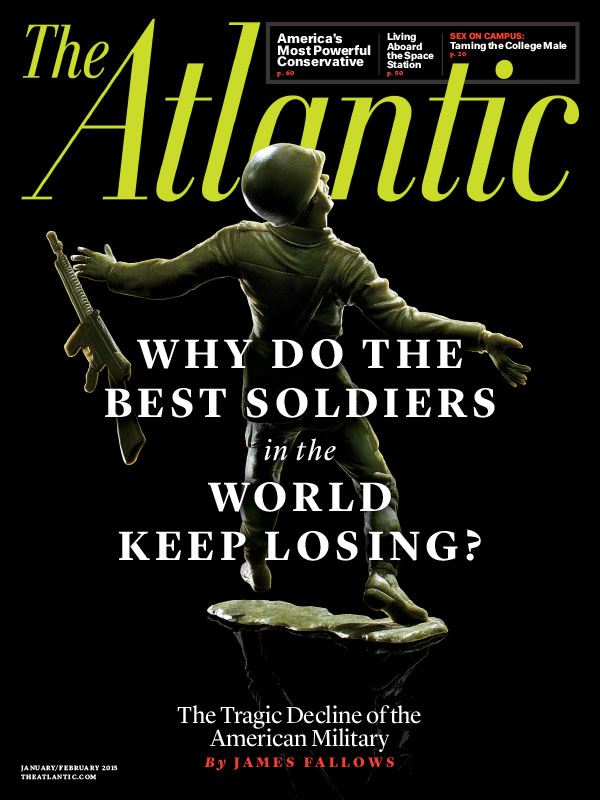
Ранее были получены данные о том, что предварительное (т.е. до выполнения КГ) применение ингибиторов ГПР IIb/IIIa или антагонистов рецепторов у больных с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST (ОКСбпST) сопровождается увеличением риска развития кровотечения в отсутствие снижения частоты развития осложнений, связанных с ишемией [18, 29, 30]. С учетом таких данных в соответствии с клиническими рекомендациями считается необоснованным применение таких средств в указанной клинической ситуации [31, 32]. Имеются лишь ограниченная информация об эффектах предварительного применения клопидогрела у больных с ОИМпST, которым выполняют ЧВКА, но полученные данные позволяют предположить, что такая тактика безопасна, а также может приводить к снижению риска развития тяжелых осложнений сердечно-сосудистых заболеваний [14, 15]. Результаты исследования свидетельствуют о том, что раннее применение тикагрелора у больных с ОИМпST безопасно, независимо от используемой классификации кровотечений. Такие данные в целом о большей безопасности раннего приема тикагрелора, по мнению авторов, могут быть обусловлены высокой вероятностью как подтверждения диагноза, так и выполнения ЧВКА и имплантации стента у больных с предполагаемым диагнозом ОИМпST, в отличие от больных с преходящими болями в грудной клетке, у которых диагноз ОКСбпST нередко не подтверждается, а ЧВКА не выполняются в 30—60% случаев [33, 34].
Такие данные в целом о большей безопасности раннего приема тикагрелора, по мнению авторов, могут быть обусловлены высокой вероятностью как подтверждения диагноза, так и выполнения ЧВКА и имплантации стента у больных с предполагаемым диагнозом ОИМпST, в отличие от больных с преходящими болями в грудной клетке, у которых диагноз ОКСбпST нередко не подтверждается, а ЧВКА не выполняются в 30—60% случаев [33, 34].
Результаты крупных исследований, в ходе выполнения которых сравнивали эффективность применения прасугрела или тикагрелора с эффективностью приема клопидогрела, свидетельствовали о снижении риска развития ТС при использовании прасугрела или тикагрелора по сравнению с приемом клопидогрела [1, 35]. Однако оставалось неизвестным, приведет ли раннее применение таких препаратов к дальнейшему снижению риска. В ходе выполнения исследования ATLANTIC все случаи развития ТС в течение первых 24 ч после вмешательства отмечались в группе ПС, и преимущества ПДГ тикагрелора сохранялись в течение 30 дней.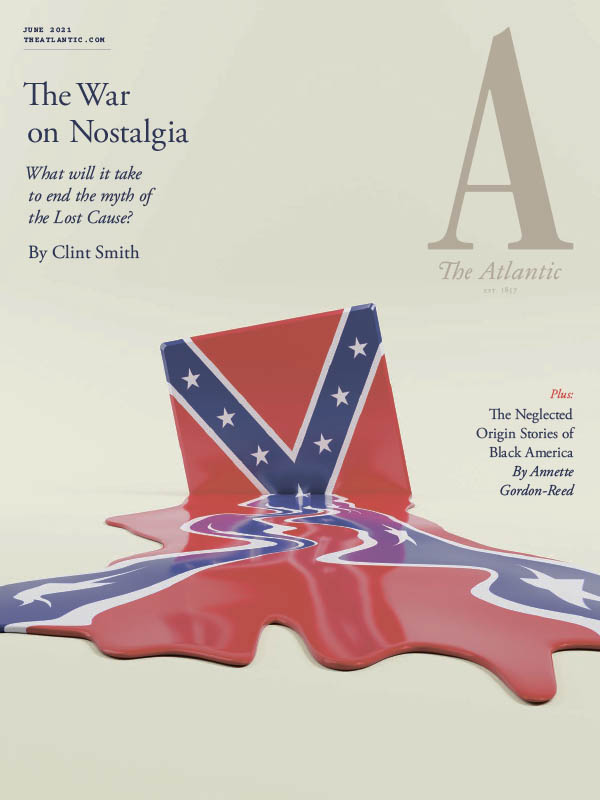 Несмотря на то что часть исследования с оценкой реактивности тромбоцитов не имела достаточной статистической мощности, максимальные различия в подавлении агрегации тромбоцитов отмечались в период снижения частоты развития ТС, что подтверждает обоснованность полученных результатов. Следует отметить тщательность наблюдения за случаями развития ТС, а также напомнить, что увеличение частоты развития ТС в ранние сроки после его имплантации в разных исследованиях по оценке эффективности применения бивалирудина [36—38] во многом стало основанием для ограничения его использования. В ходе выполнения исследования ATLANTIC частота развития определенного ТС снижалась при раннем использовании тикагрелора в отсутствие уменьшения безопасности терапии. Несмотря на то что частота развития ТС была заранее определенным критерием оценки эффективности раннего применения тикагрелора по сравнению с отсроченным, такой показатель был дополнительным, а улучшения других показателей не отмечалось. Следовательно, такие результаты, по мнению авторов, нельзя считать достаточно определенными.
Несмотря на то что часть исследования с оценкой реактивности тромбоцитов не имела достаточной статистической мощности, максимальные различия в подавлении агрегации тромбоцитов отмечались в период снижения частоты развития ТС, что подтверждает обоснованность полученных результатов. Следует отметить тщательность наблюдения за случаями развития ТС, а также напомнить, что увеличение частоты развития ТС в ранние сроки после его имплантации в разных исследованиях по оценке эффективности применения бивалирудина [36—38] во многом стало основанием для ограничения его использования. В ходе выполнения исследования ATLANTIC частота развития определенного ТС снижалась при раннем использовании тикагрелора в отсутствие уменьшения безопасности терапии. Несмотря на то что частота развития ТС была заранее определенным критерием оценки эффективности раннего применения тикагрелора по сравнению с отсроченным, такой показатель был дополнительным, а улучшения других показателей не отмечалось. Следовательно, такие результаты, по мнению авторов, нельзя считать достаточно определенными.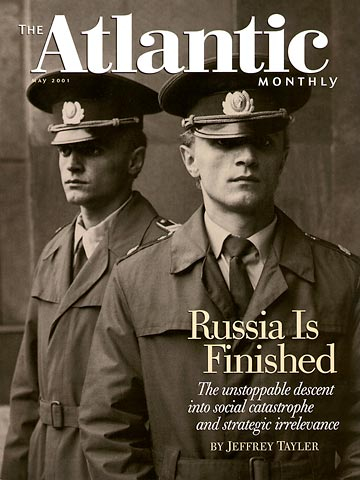
Результаты крупного исследования PLATO свидетельствовали о статистически значимом снижении смертности при применении тикагрелора по сравнению с плацебо [23]. В ходе выполнения исследования смертность была низкой, при этом отмечалась тенденция к увеличению числа умерших больных в группе ПДГ. Почти все случаи смерти в основном были обусловлены развитием кардиогенного шока, остановкой кровообращения или разрывом сердца, а не кровотечениями или осложнениями, связанными с ишемией. Такие результаты позволяют предположить, что персонал скорой медицинской помощи не исключал из исследования наиболее тяжелых больных, в связи с чем нельзя исключить различие между группами по тяжести клинических проявлений заболевания (например, в группе ПДГ мог быть более высоким риск развития неблагоприятного исхода по данным оценки с помощью шкалы TIMI).
Среди неизбежных недостатков исследования его авторы выделяют небольшой размер выборки и небольшую продолжительность периода между приемом исследуемого препарата и выполнением вмешательства, направленного на достижение реперфузии.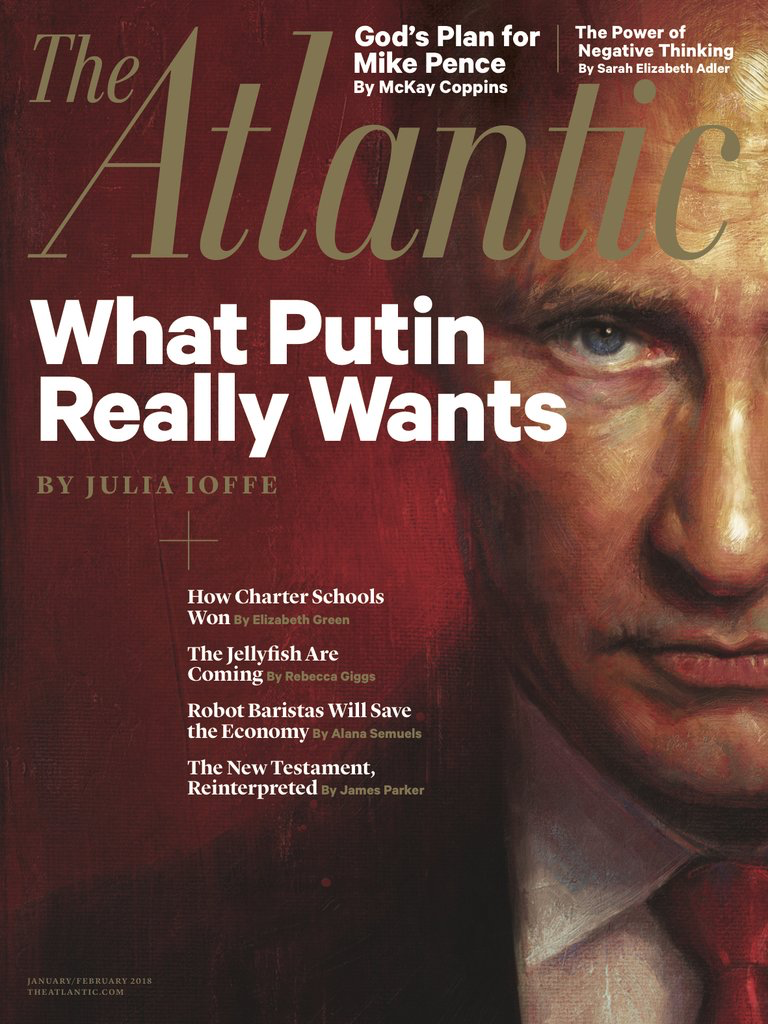 В ходе анализа результатов исследования отмечалось соответствие данных, полученных при оценке фармакодинамики, при оценке регрессирования подъема сегмента ST и достижения кровотока определенной степени по классификации TIMI. Это позволяет предположить преимущественное развитие эффекта препарата после выполнения ЧВКА. Продолжительность периода до выполнения ЧВКА в исследовании ATLANTIC была очень небольшой в обеих группах, что отражает высокое качество оказания медицинской помощи, но такой фактор мог затруднять выявление преимуществ применения исследуемого препарата и может не отражать качество лечения в условиях реальной клинической практики. К другим возможным ограничениям исследования авторы отнесли отсроченную абсорбцию антагонистов тромбоцитарных рецепторов P2Y12 после приема [19—21]. Начало действия препарата могло становиться еще более отсроченным за счет сопутствующего применения морфина примерно у 50% больных [21, 39]. Следует отметить, что у больных, которым не вводили морфин, отмечалось статистически значимое улучшение основного показателя степени регрессирования подъема сегмента ST на ЭКГ при достижении статистически значимого значения p для взаимодействия между применением морфина и эффектом приема тикагрелора на догоспитальном этапе лечения или в стационаре.
В ходе анализа результатов исследования отмечалось соответствие данных, полученных при оценке фармакодинамики, при оценке регрессирования подъема сегмента ST и достижения кровотока определенной степени по классификации TIMI. Это позволяет предположить преимущественное развитие эффекта препарата после выполнения ЧВКА. Продолжительность периода до выполнения ЧВКА в исследовании ATLANTIC была очень небольшой в обеих группах, что отражает высокое качество оказания медицинской помощи, но такой фактор мог затруднять выявление преимуществ применения исследуемого препарата и может не отражать качество лечения в условиях реальной клинической практики. К другим возможным ограничениям исследования авторы отнесли отсроченную абсорбцию антагонистов тромбоцитарных рецепторов P2Y12 после приема [19—21]. Начало действия препарата могло становиться еще более отсроченным за счет сопутствующего применения морфина примерно у 50% больных [21, 39]. Следует отметить, что у больных, которым не вводили морфин, отмечалось статистически значимое улучшение основного показателя степени регрессирования подъема сегмента ST на ЭКГ при достижении статистически значимого значения p для взаимодействия между применением морфина и эффектом приема тикагрелора на догоспитальном этапе лечения или в стационаре. Пока остается неизвестным, в какой степени такое взаимодействие могло повлиять на полученные в целом результаты.
Пока остается неизвестным, в какой степени такое взаимодействие могло повлиять на полученные в целом результаты.
Таким образом, результаты исследования ATLANTIC свидетельствуют о безопасности приема тикагрелора на догоспитальном этапе лечения незадолго до выполнения ЧВКА у больных с ОИМпST, а также о том, то такая тактика не приводит к увеличению частоты достижения реперфузии до выполнения ЧВКА.
The Books Briefing: Дженни Хан, Мария Конникова
Лучшие аферисты всегда думают о своей следующей мишени. Печально известный ипотечный мошенник Мэтью Кокс работал под разными углами: он украл личные данные незнакомцев, обманул служащих службы социального обеспечения и банки поддельными документами и украл не менее 12 миллионов долларов. «Он был действительно влюблен в создание истории. По тому, как он говорил о вещах, мне казалось, что мы живем в кино», — сказал его бывший сообщник Atlantic 9.0004 писательница Рэйчел Монро. Мошенник, в конце концов, должен быть столь же соблазнительным, сколь и коварным; даже психолог Мария Конникова, написавшая книгу о аферистах «Игра в доверие », сказала, что ее опыт не помешал ей чуть не поддаться их чарам.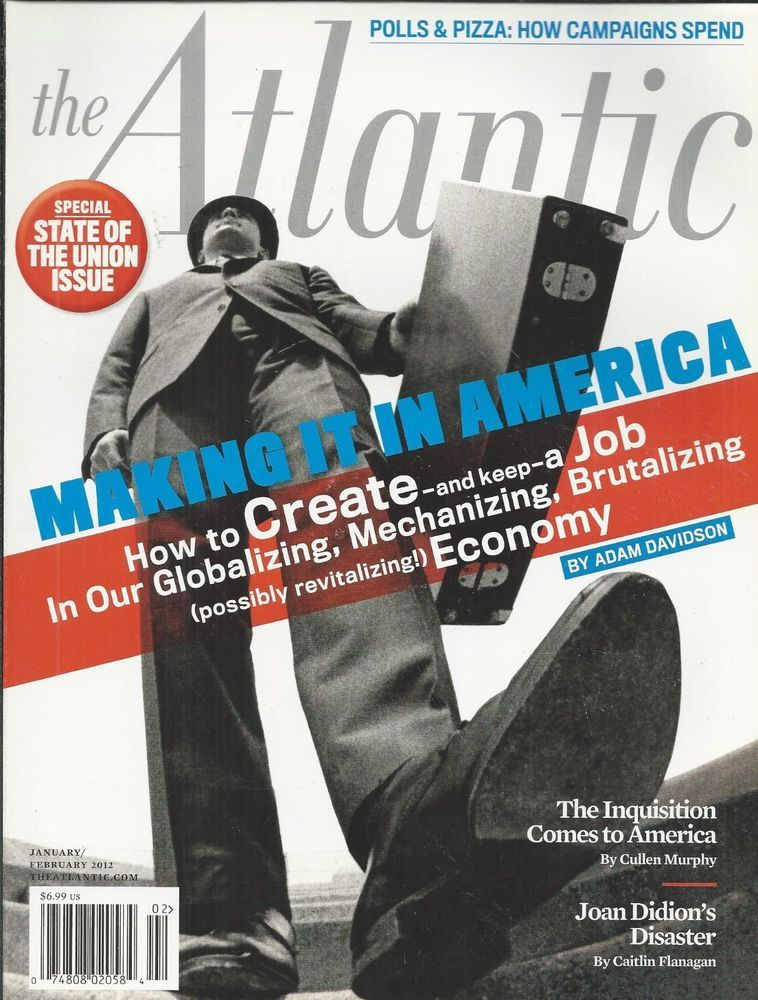 После того, как Кокса, наконец, арестовали за сочинение сказок, он превратился в рассказчика — в автора криминальных романов, и это его самый умный поступок.
После того, как Кокса, наконец, арестовали за сочинение сказок, он превратился в рассказчика — в автора криминальных романов, и это его самый умный поступок.
Пикантная уловка может возвысить литературный сюжет, будь то настоящее преступление или что-то другое. Молодежный роман Дженни Хан 9«0003 Всем парням, которых я любила раньше» «» и его адаптация для Netflix понравились публике, опираясь на заезженную формулу: фальшивые отношения, которые превращаются в настоящий роман. Преднамеренная уловка, отмечает Ханна Гиоргис, делает возможную близость еще слаще. А в «Дневнике пустоты » Эми Яги изощренная ложь одной женщины обнажает ее суровую реальность. Главная героиня притворяется беременной, чтобы облегчить себе работу, но, как пишет Роуэн Хисайо Бьюкенен в своем обзоре, «сознательно или бессознательно она выступает не только против своего офиса, но и против долгой истории дискриминации по признаку пола».
Тем не менее, иногда мошенничество остается просто мошенничеством. Одна из первых американских «фальшивых новостей» появилась почти два столетия назад, когда газета New York Sun в шести выпусках и 17 000 слов сообщила, что на Луне есть квазилюди, что есть телескоп, который можно использовать. увидеть их, и что у этих существ были крылья летучей мыши, сапфировые виски и обильное количество секса под открытым небом. Газета поддерживалась рекламой, и их валютой было внимание — мало чем отличающееся от многих сегодняшних новостных платформ и социальных сетей. Истина — сила, но зрелище продается.
Одна из первых американских «фальшивых новостей» появилась почти два столетия назад, когда газета New York Sun в шести выпусках и 17 000 слов сообщила, что на Луне есть квазилюди, что есть телескоп, который можно использовать. увидеть их, и что у этих существ были крылья летучей мыши, сапфировые виски и обильное количество секса под открытым небом. Газета поддерживалась рекламой, и их валютой было внимание — мало чем отличающееся от многих сегодняшних новостных платформ и социальных сетей. Истина — сила, но зрелище продается.
Каждую пятницу на брифинге по книгам мы собираем вместе Atlantic истории о книгах, которые разделяют схожие идеи. Знаете других книголюбов, которым может понравиться это руководство? Перешлите им это письмо.
Когда вы покупаете книгу по ссылке в этом информационном бюллетене, мы получаем комиссию. Спасибо за поддержку The Atlantic .
Что мы читаем
Предоставлено Мэтью Кокс / The Atlantic
Мошенник, который стал писателем реальных преступлений
«[Кокс] надеялся, что черты, на которые он полагался, совершая мошенничество с ипотекой, — дар рассказчика, внимательное отношение к документам, терпеливая способность распутывать сложные системы, и знакомство с преступным миром — сослужило бы ему хорошую службу в его писательской карьере».
📚 Однажды беглец с оружием , Эфраим Дивероли и Мэтью Б. Кокс
📚 Поколение Окси: от школьных борцов до наркобаронов , Дуглас Додд и Мэтью Б. Кокс
2 / Riko Pictures / Ocean / Corbis
Сможете ли вы распознать лжеца?
«Когда ты подавлен, когда ты уязвим, происходят перемены, и твой мир больше не имеет того смысла, который был раньше… ты особенно уязвим перед людьми, которые понимают его для тебя. Вам нужен этот смысл. Вам нужно это чувство связи, и мошенники с удовольствием вам его подарят».
📚 The Contrent Game , Maria Konnikova
Netflix
Непрерывающаяся привлекательность в ром-кам-каме
из-за того же фактора, который делает романтические комедии таким увлекательным жанром: тайна не в том, какой будет сама конечная точка, а в том, как потенциальные любовники доберутся до нее»./media/img/posts/2016/06/cover_sam_corner/original.png)
📚 Всем парням, которых я любила раньше , by Jenny Han
Вартика Шарма
Странная дерзость имитации важного момента жизни
Шибата действительно принимает меры, чтобы ее не обнаружили — выбирает удаленный туалет, когда у нее месячные, набивает платье, чтобы казаться беременной, — но Яги сосредоточена на том, как игра беременной меняет отношение Шибаты к самой себе».
📚 Дневник void , Эми Яги, перевод Дэвида Бойда и Люси Норт
Библиотека Конгресса
Что Facebook и Google могут учиться на первых крупных новостях Hoax
. «Человеческое внимание — непостоянный наемник, который не всегда тяготеет к лучшему делу. Автоматическое внимание людей склонно к возмутительным, а не к общественно ценным, что делает популярность на рынках внимания плохим мерилом истины».
📚 Торговцы вниманием: Эпическая борьба за то, чтобы проникнуть в наши головы , Тим Ву
На этой неделе она читает книгу « Где заканчиваются причины » Июн Ли.
Комментарии, вопросы, опечатки? Ответьте на это письмо, чтобы связаться с командой Books Briefing.
Вы получили этот информационный бюллетень от друга? Зарегистрируйтесь.
Чикаго может стать моделью будущего Miranda Rights
«Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. Вы имеете право на адвоката. Если вы не можете позволить себе адвоката, вам его предоставят».
Глубоко укоренившиеся в популярной культуре, эти слова могут быть произнесены по памяти поколениями зрителей полицейских шоу. Тем не менее, спустя более 50 лет после того, как Верховный суд постановил в деле Миранда против Аризоны, что Пятая поправка требует от полиции информировать лиц, находящихся под стражей, об их правах, обещание этого решения остается в значительной степени нереализованным.
На протяжении двух десятилетий сообщений о жестоком обращении со стороны полиции в Чикаго я снова и снова видел, насколько судьбоносными могут быть первые часы содержания под стражей в полиции для тех, у кого нет компетентного юридического представителя — проблема, которую Миранда должна была решить.
У спорного прецедента, неоднократно сокращавшегося на протяжении многих лет и теперь находящегося под угрозой со стороны большинства Верховного суда, которое выразило свою враждебность в решении, принятом в прошлом сроке, была странная карьера. Хотя практика «мирандизации» людей, находящихся под стражей, широко применяется правоохранительными органами, ее фактическое влияние, по-видимому, было незначительным. Реальность такова, что люди без средств лишены доступа к адвокату, в результате чего они подвергаются принудительным методам допроса.
Нигде это так не очевидно, как в Чикаго, столице страны, где выносятся неправомерные приговоры. Но теперь указ о согласии — соглашение, вступившее в силу в судебном порядке, разрешающее юридический спор — вступившее в силу в суде штата в среду, поставило Чикаго на путь, который обещает придать конкретное значение Миранде и тем самым послужить образцом для других городов и городов. состояния.
состояния.
Указ разрешает иск, поданный адвокатами по гражданским правам от имени протестующих, содержащихся без связи с внешним миром в контексте демонстраций Джорджа Флойда 2020 года, и от имени Управления общественного защитника округа Кук, среди других организаций.
Как резюмирует проект «Гражданские права и подотчетность полиции» юридического факультета Чикагского университета, которые входили в состав группы юристов, участвовавших в обсуждении указа, полицейское управление Чикаго будет обязано предоставить каждому лицу, находящемуся под стражей, незамедлительный доступ к адвоката как по телефону, так и лично. В частности, ведомство будет обязано разместить в каждой комнате для допросов телефоны и таблички с бесплатной круглосуточной горячей линией общественного защитника; обеспечить доступ каждого лица, находящегося под стражей, к этим телефонам «как можно скорее» и не позднее, чем через три часа после задержания; предоставить частные и конфиденциальные зоны в каждом полицейском участке Чикаго, где люди могли бы звонить и встречаться с адвокатами; и дать каждому арестованному по крайней мере три телефонных звонка в течение первых трех часов содержания под стражей и еще три звонка в любое время, когда его переводят.
Это может исправить ошибки, которые сохранялись в течение десятилетий, в течение которых полицейское управление Чикаго придерживалось практики содержания под стражей без связи с внешним миром, отказывая заключенным в доступе к телефону, адвокату и внешнему миру, тем самым создавая пространство, в котором полицейские следователи могут использовать изоляцию и уязвимость заключенных. Случай за случаем неправомерного осуждения, который стоил городу сотен миллионов долларов в виде компенсаций и присуждений, показал, как эти условия используются полицией для принуждения к признанию.
В крайнем случае, эта практика послужила поводом для серьезных нарушений прав человека, таких как пытки подозреваемых офицерами под командованием командира Джона Берджа, десятки ложных приговоров (многие за убийства), выдвинутых детективом Рейнальдо Геварой, и «черный отверстие» на объекте Homan Square, где тысячи людей были задержаны без учета адвокатов.
Несмотря на такие злоупотребления, практику содержания под стражей без связи с внешним миром лучше всего понимать не как проступок, т. е. нарушение правил, а скорее как политику де-факто, противоречащую закону. Другими словами, так дела обстоят внутри отдела. Этому учат офицеров. И они могут делать это, не опасаясь последствий, учитывая постоянное ослабление Верховным судом других средств защиты обвиняемых по уголовным делам, таких как правило исключения, которое было разработано для предотвращения злоупотреблений путем исключения доказательств, полученных неконституционным путем.
е. нарушение правил, а скорее как политику де-факто, противоречащую закону. Другими словами, так дела обстоят внутри отдела. Этому учат офицеров. И они могут делать это, не опасаясь последствий, учитывая постоянное ослабление Верховным судом других средств защиты обвиняемых по уголовным делам, таких как правило исключения, которое было разработано для предотвращения злоупотреблений путем исключения доказательств, полученных неконституционным путем.
В результате подавляющему большинству задержанных полицией Чикаго отказывают в доступе к адвокату. Отчет, опубликованный Целевой группой полиции Чикаго по подотчетности в 2016 году, показал, что в 2014 году только трое из каждых 1000 человек, арестованных CPD, когда-либо получали доступ к адвокату в любой момент содержания под стражей.
Записи об арестах CPD показывают, что в период с августа 2019 года по июль 2020 года более половины людей, задержанных по делам об убийствах, в которых ставки ложного признания наиболее высоки, не сделали или не получили ни одного телефонного звонка, а те, кто был в конечном итоге смогли сделать звонок, ожидая в среднем более 12 часов, в течение которых они были уязвимы для злоупотреблений CPD. CPD также отказал в доступе к телефону людям, обвиняемым в менее серьезных преступлениях.
CPD также отказал в доступе к телефону людям, обвиняемым в менее серьезных преступлениях.
Пространство, где происходят такие злоупотребления, является буквальным — комнатой для допросов — и пробелом в конституционной архитектуре. Знаменательное решение Суда 1963 года Gideon v. Wainwright установило, что Шестая поправка требует от штатов предоставления адвокатов обвиняемым по уголовным делам, которые не могут позволить себе собственных. Последующее решение, Brewer v. Williams , в 1977 году, ограничило сферу действия Gideon , постановив, что ответчик получает право на адвоката «в момент или после того, как против него было возбуждено судебное разбирательство». Другими словами, малообеспеченный обвиняемый впервые получает доступ к государственному защитнику во время своей первой явки в суд.
Таким образом, многие из содержащихся под стражей лишены доступа к адвокату с момента задержания и до появления в суде. Будь то часы или дни, это может быть вечностью для изолированного человека, подвергнутого принудительному допросу.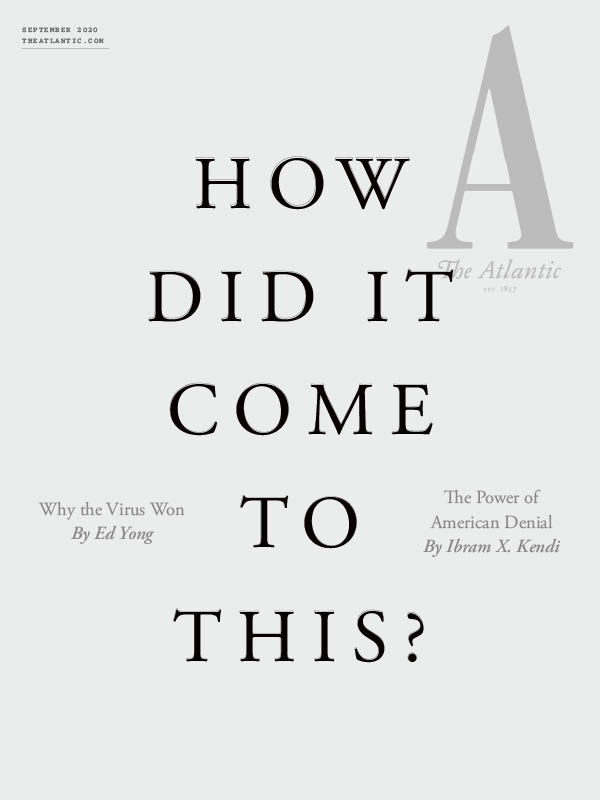
Чрезвычайно практичные средства правовой защиты указа о согласии Чикаго, наконец, сделают обещание Миранды реальностью в одном из крупнейших городов страны. И они имеют последствия за пределами Чикаго. В то время как страна спорит с Верховным судом, готовым отменить давно сложившиеся прецеденты, указ о согласии предлагает возможные стратегии, с помощью которых другие города и штаты могут сохранить, ввести в действие и придать конкретный смысл основным правам.
Скрытый мир ароматов за вашей дверью
Когда я выхожу из дома, меня сначала поражает запах сухой лужайки, ее почва высохла от жары прошедшего лета. Любуюсь соседскими розами (мед, варенье, гвоздика) и делаю прямо в ресторане фо (чеснок, корица, эмульгированные кости). Острые нафталиновые шарики, используемые на продуктовом рынке для отпугивания вредителей, напоминают мне неприятный запах изо рта. Этот запах вскоре сменяется запахом импортной гуавы, настолько ароматной, что проникает сквозь полиэтиленовую пленку. Этот высокооктановый парфюм следует за мной по кварталу.
Этот высокооктановый парфюм следует за мной по кварталу.
Я на прогулке по запаху, привычка, сформированная во время пандемии коронавируса: я прогуливаюсь по своему усаженному деревьями району в восточной части Торонто, сосредотачиваясь не на более очевидных достопримечательностях и звуках города, а на его более тонких запахах. Я начал эти прогулки для своего психического здоровья — ходьба обеспечила мне ежедневную физическую активность, а обоняние дало столь необходимое чувство когнитивной тишины. В наши дни для моего любопытства это стало охотой за мусором, возможностью познакомиться с новыми запахами, которые могут рассказать мне кое-что о месте и времени, в которых я живу.
Отчасти привлекательность прогулки по запаху, я признаю, заключается в том, насколько сложным и неуклюжим кажется задействовать такое малоиспользуемое чувство. Движение по миру носом вперед кажется противоположным тому, как я — и, возможно, большинство из нас — выросли в нем. В нашей культуре преобладает аудиовизуальное; фильтровать наш опыт с помощью обоняния не так просто, как заметить смену времен года на деревьях, скажем, или распознать мелодию проезжающего автомобиля.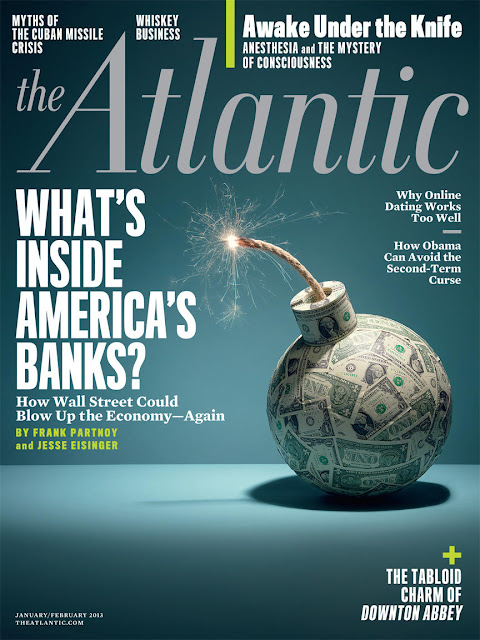 Это требует преднамеренного внимания и кажущегося неестественным умственного усилия, например, крепкого удержания чего-то, что привыкло быть свободным.
Это требует преднамеренного внимания и кажущегося неестественным умственного усилия, например, крепкого удержания чего-то, что привыкло быть свободным.
Это также похоже на то, как если бы вы болели за неудачников. Если бы «Пять чувств» были бойз-бэндом, обоняние определенно было бы наименее популярным участником. Это не новость: некоторые из самых влиятельных философов в западной истории воротили нос от обоняния. «Человек плохо обоняет вещи», — заявил Аристотель, считая наши носы неточными органами чувств. Иммануил Кант называл обоняние «самым ненужным» из наших чувств, ссылаясь на его мимолетный характер как на причину, по которой «не стоит его культивировать или совершенствовать». Спустя столетия исследование, проведенное маркетинговой компанией McCann Worldgroup, показало, что более половины опрошенных ими молодых людей в возрасте от 16 до 22 лет предпочли бы отказаться от своего обоняния, чем от технологий. Мои друзья соглашаются, ставя обоняние на плаху перед всеми остальными чувствами, даже когда я, пожизненный фанат ароматов, говорю им — с некоторым негодованием, — что чувства неразрывны и что около 80 процентов нашего восприятия вкуса на самом деле обоняние.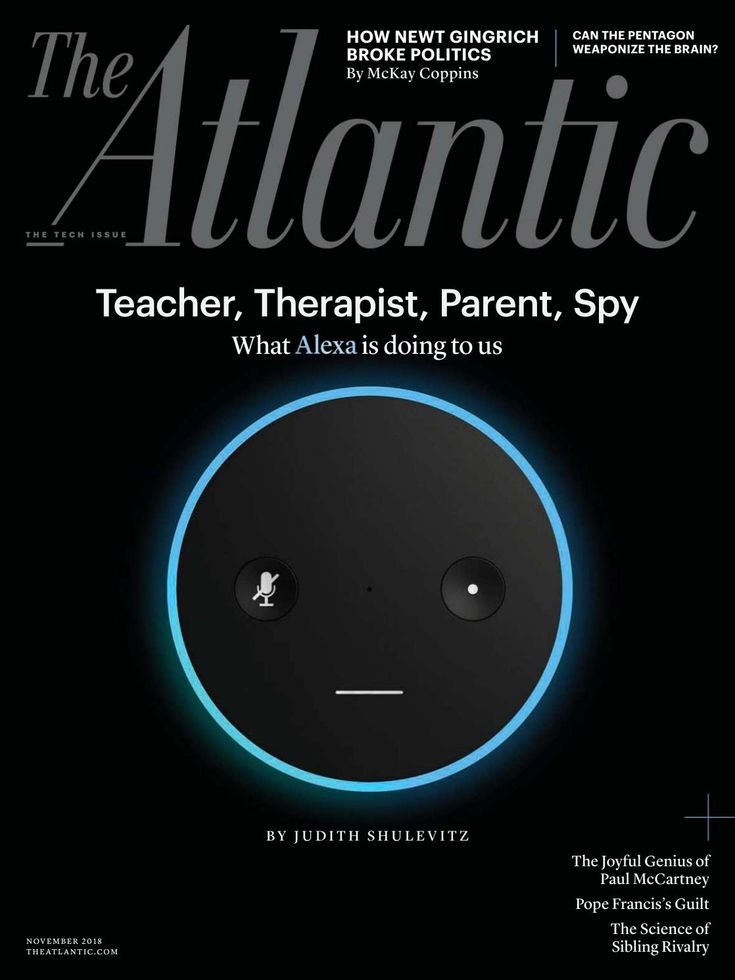 в природе.
в природе.
Пандемия сменила это безразличие на обоняние. Потеря обоняния стала явным признаком заражения COVID. Люди вокруг меня начали сообщать о временной потере обоняния. Некоторые испытывали призрачные запахи, также известные как фантосмия, такие как внезапный запах сигаретного дыма из ниоткуда. У других наблюдалась паросмия — искажения в восприятии знакомых запахов. Подруга-эпикурейка (которая какое-то время считала, что ее любимые блюда испорчены этим заболеванием) призналась мне, что никогда не придавала особого значения своему обонянию — пока оно не исчезло.
В других местах множатся истории о запахах. TikToks, превозносящие преимущества обучения обонянию (практика многократного вдыхания одной и той же горстки ароматов для реабилитации носа), попали на мою страницу «Для вас». Носящие маски говорили о том, что скучают по запахам внешнего мира. Запах вошел в чат. У меня возникло странное чувство товарищества с этими наблюдателями запахов, которые только что обратили внимание на его чудеса; моя одержимость, наконец, была признана.
Когда я заболел COVID через два года после начала пандемии, я задокументировал изменения в своем обонянии со смесью трепета и любопытства. Читать о чужой паросмии — это одно, но единственный способ по-настоящему понять аромат — испытать его на себе. Мое обоняние изменилось на несколько недель. Вода имела тревожно металлический привкус. Кинза, таинственным образом лишенная цветочного мыльного запаха, снова стала вкусной. Духи, которые я знал наизусть, пахли так, будто они были пронизаны дырами — целыми спектрами ароматов, которые я больше не мог уловить. Прогулки по запаху обрели еще одну цель, возможность проверить свой нос: смогу ли я почувствовать запах травы в парке? Как насчет жареного кофе из Старбакса на углу? Вернется ли мое обоняние — полностью — к сирени?
К счастью, это произошло, позволив мне насладиться некоторыми из моих самых заветных сезонных запахов: одежда, вывешенная для просушки на солнце, кокосовый аромат аптечных солнцезащитных кремов, дуновение обугленного мяса с далекого гриля. Скоро это будет прохладный минеральный воздух осенней ночью, сусло мокрых листьев под ногами. Прогулки по запаху напоминают о том, что сезонные изменения происходят и в атмосфере, а не только в цвете листьев над головой.
Скоро это будет прохладный минеральный воздух осенней ночью, сусло мокрых листьев под ногами. Прогулки по запаху напоминают о том, что сезонные изменения происходят и в атмосфере, а не только в цвете листьев над головой.
То, что для меня является развлекательной практикой, основано на обширной работе художников и ученых, изучающих, как запах влияет на наше понимание общественного пространства. Одна из них — Кейт Маклин, директор программы графического дизайна в Кентском университете, которая проводит прогулки по запахам в городах по всему миру, чтобы отследить, как запахи действуют в конкретных условиях. Она переводит полученные данные в «карты ландшафта запахов» — яркие изображения, состоящие из цветных точек, которые представляют различные источники запаха, и расходящихся концентрических пятен, которые показывают их уменьшающуюся интенсивность и дрейф. Лето 2012 года в Ньюпорте, штат Род-Айленд, пахло пивными барами, пляжными розами и океаном. Лето 2017 года вокруг Астор Плейс, Нью-Йорк: стройка, мокрые мусорные баки, сигаретный дым.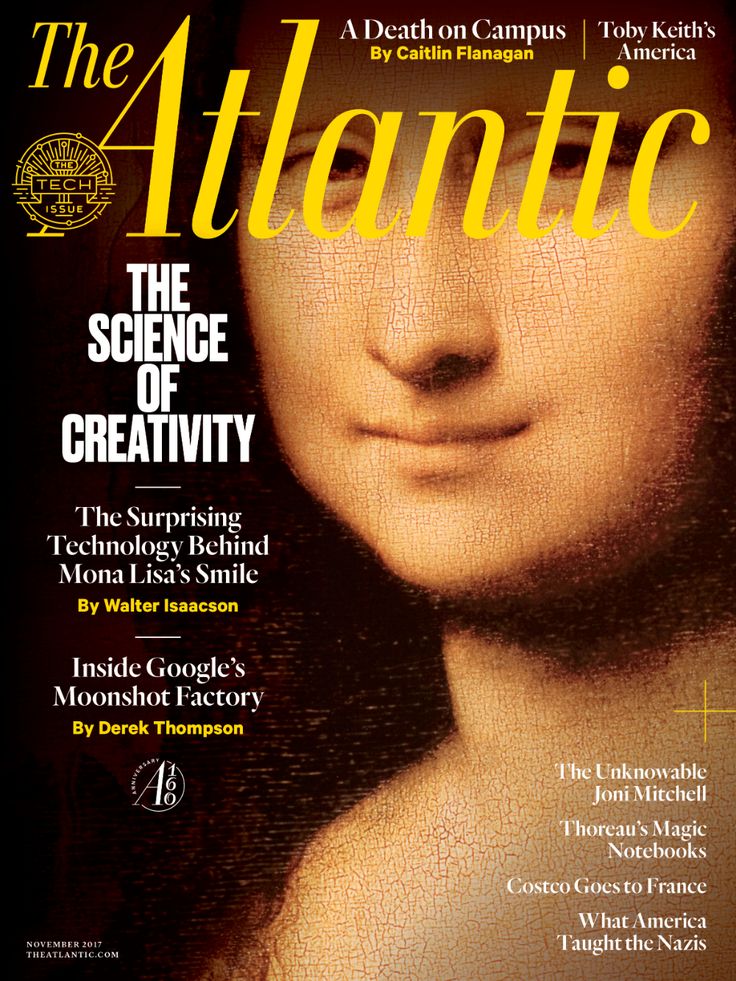 Мы часто вспоминаем наши города по фотографиям и архивам, но как мы запоминаем их запахи? Картография Маклина для эфемерного становится общим воспоминанием, которое нужно передать, и приглашением запечатлеть через менее распространенную линзу времена и пространства, в которых мы существуем.
Мы часто вспоминаем наши города по фотографиям и архивам, но как мы запоминаем их запахи? Картография Маклина для эфемерного становится общим воспоминанием, которое нужно передать, и приглашением запечатлеть через менее распространенную линзу времена и пространства, в которых мы существуем.
Восприятие запахов также может дать социокультурную информацию, которую обычно затмевают другие органы чувств. Художник-обонятельница из Берлина Сиссель Толаас, которая занимается записью ароматов с 1990-х годов, рассматривает все запахи как единицы данных, которые она организует по-разному. В Talking Nose запахи, которые Толаас собрал в Мехико, стали картой, которая привлекла внимание к плотному загрязнению воздуха в городе; в инсталляции Eau D’You Who Am I посетителям предлагалось прикоснуться к стенам, чтобы выпустить запахи, которые представляли различные грани сингапурской молодежи. Сегодня личный архив ароматов Толааса состоит из более чем 7000 запахов, каждый из которых пронумерован и хранится в отдельной алюминиевой банке, и связан с историей о контексте этого аромата.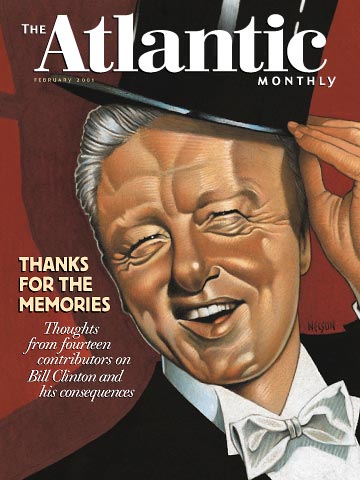 «У каждого запаха в архиве, — пишет она, — есть своя история».
«У каждого запаха в архиве, — пишет она, — есть своя история».
Думаю, это относится ко всем запахам. Во время моих прогулок цель состоит в том, чтобы замечать запахи, не оценивая их происхождения, как можно было бы относиться к навязчивым мыслям во время медитации. Настроиться может показаться открытием секретной радиостанции, которая передает подсказки о калейдоскопическом мире, в котором мы живем, — кто был здесь, что они потребляли, как они проводили свои дни. И если вы продолжите прогулки по запаху, они станут документами перемен, как в сезоны, так и в культуре. Я живу в страхе, что мой любимый магазин фо однажды закроется и будет заменен модным магазином каннабиса, повторив судьбу многих других предприятий в этом районе. Чего бы мне больше всего не хватало, так это мгновенного комфорта его запаха.
Кант считал обоняние недостойным изучения из-за его эфемерности. Его потеря. Для меня непостоянство аромата — вот почему он так важен. Во многих смыслах это зеркало самой жизни: здесь, потом нет, становится богаче, когда мы обращаем внимание по пути.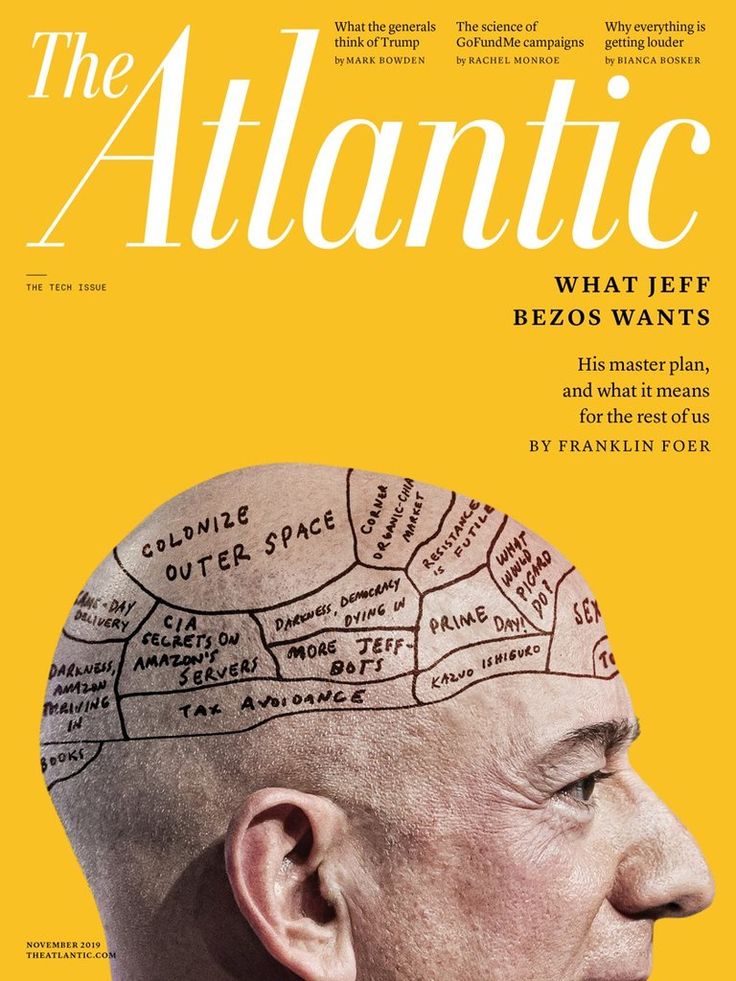
Америка выбирает оставаться уязвимой перед пандемией
Недавно, после недели, когда 2789 американцев умерли от COVID-19, президент Джо Байден заявил, что «пандемия закончилась». Энтони Фаучи назвал полемику вокруг прокламации вопросом «семантики», но факты, с которыми мы живем, могут говорить сами за себя. Каждую неделю COVID по-прежнему убивает примерно столько же американцев, сколько умерло 9 сентября./11. Он находится на пути к гибели не менее 100 000 человек в год, что в три раза превышает типичный показатель смертности от гриппа. Несмотря на грубый недоучет, каждый день регистрируется более 50 000 заражений. По оценкам CDC, 19 миллионов взрослых давно болеют COVID. Ситуация, несомненно, улучшилась после пика кризиса, но называть пандемию «законченной» — это все равно, что называть бой «законченным», потому что ваш противник бьет вас не по лицу, а по ребрам.
Американские лидеры и эксперты пытались положить конец пандемии с самого начала, но столкнулись с новыми вспышками или вариантами. Такое мышление не только ставит под угрозу способность страны справляться с COVID, но и делает ее уязвимой для других вспышек. Будущие пандемии не гипотетичны; они неизбежны и неизбежны. На протяжении последних десятилетий регулярно возникают новые инфекционные заболевания, и изменение климата ускоряет темпы таких событий. Поскольку повышение температуры вынуждает животных переселяться, виды, которые никогда не сосуществовали, встретятся, что позволит вирусам внутри них найти новых хозяев, включая людей. Иметь дело со всем этим снова — вопрос времени, а не если.
Такое мышление не только ставит под угрозу способность страны справляться с COVID, но и делает ее уязвимой для других вспышек. Будущие пандемии не гипотетичны; они неизбежны и неизбежны. На протяжении последних десятилетий регулярно возникают новые инфекционные заболевания, и изменение климата ускоряет темпы таких событий. Поскольку повышение температуры вынуждает животных переселяться, виды, которые никогда не сосуществовали, встретятся, что позволит вирусам внутри них найти новых хозяев, включая людей. Иметь дело со всем этим снова — вопрос времени, а не если.
В 2018 году я написал статью в The Atlantic , в которой предупреждал, что США не готовы к пандемии. Этот диагноз остается неизменным; во всяком случае, я был слишком оптимистичен. Америка была признана самой подготовленной страной в мире в 2019 году — и, как ни странно, 90 003 снова 90 004 в 2021 году, — но на ее долю приходится 16 процентов глобальных смертей от COVID, несмотря на то, что на нее приходится всего 4 процента населения мира. Она тратит на медицинское обслуживание больше, чем любая другая богатая страна, но, тем не менее, ее больницы были переполнены. Она помогла создать вакцины в рекордно короткие сроки, но занимает 67-е место в мире по полной вакцинации. (Эта тенденция не может быть объяснена исключительно политическим расколом; даже самый хорошо вакцинированный голубой штат — Род-Айленд — все еще отстает от 21 страны.) В 2020 году в Америке наблюдалось самое большое снижение продолжительности жизни среди всех богатых стран, и, в отличие от других стран, она продолжилась. снижается в 2021 году. Если бы он работал так же хорошо, как только в среднем по аналогичным странам, 1,1 миллиона человек, умерших в прошлом году — треть всех смертей в Америке — все еще были бы живы.
Она тратит на медицинское обслуживание больше, чем любая другая богатая страна, но, тем не менее, ее больницы были переполнены. Она помогла создать вакцины в рекордно короткие сроки, но занимает 67-е место в мире по полной вакцинации. (Эта тенденция не может быть объяснена исключительно политическим расколом; даже самый хорошо вакцинированный голубой штат — Род-Айленд — все еще отстает от 21 страны.) В 2020 году в Америке наблюдалось самое большое снижение продолжительности жизни среди всех богатых стран, и, в отличие от других стран, она продолжилась. снижается в 2021 году. Если бы он работал так же хорошо, как только в среднем по аналогичным странам, 1,1 миллиона человек, умерших в прошлом году — треть всех смертей в Америке — все еще были бы живы.
В исключительно плохой работе Америки нельзя винить только администрацию Трампа или Байдена, хотя обе они допустили вопиющие ошибки. Скорее, новый коронавирус воспользовался многими отказавшими системами страны: ее переполненными тюрьмами и неукомплектованными домами престарелых; его хронически недофинансируемая система общественного здравоохранения; его зависимость от запутанных цепочек поставок и экономики «точно в срок»; его коммерческая система здравоохранения, работники которой уже выгорели; его многолетний проект по созданию сетей социальной защиты; и его наследие расизма и сегрегации, которое уже привело к тому, что чернокожие и коренные сообщества, а также другие цветные сообщества непропорционально обременены проблемами со здоровьем.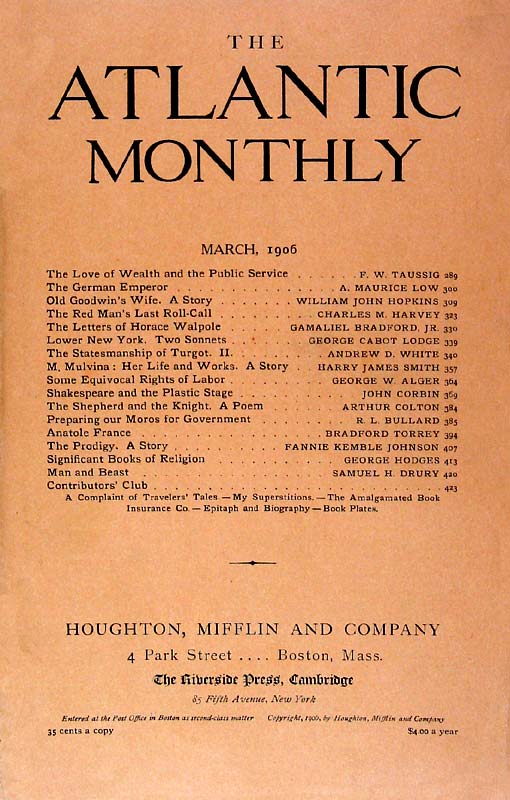 Даже в годы, предшествовавшие COVID, США все еще теряли примерно на 626 000 человек больше, чем ожидалось для страны такого размера и ресурсов. COVID просто разрушил здание, фундамент которого уже прогнил.
Даже в годы, предшествовавшие COVID, США все еще теряли примерно на 626 000 человек больше, чем ожидалось для страны такого размера и ресурсов. COVID просто разрушил здание, фундамент которого уже прогнил.
В яростной гонке за восстановлением на том же фундаменте Америка вновь обречена на крах. Опыт считается лучшим учителем, и все же США повторили ошибки ранней пандемии, когда столкнулись с вариантами Delta и Omicron. Она получила ранний глобальный доступ к вакцинам и, тем не менее, потеряла почти полмиллиона человек после того, как все взрослые получили право на прививки. Он изо всех сил пытался контролировать оспу обезьян — медленно распространяющийся вирус, против которого уже есть вакцина. Его правые законодатели приняли законы и постановления, ограничивающие возможность принятия важных мер общественного здравоохранения, таких как карантин и обязательное введение вакцин. Он не внес ни одного из серьезных изменений, которые могли бы защитить его население от будущих патогенов, таких как улучшенная вентиляция или всеобщий оплачиваемый отпуск по болезни. Его выбор фактически гарантирует, что все, что произошло за последние три года, повторится снова.
Его выбор фактически гарантирует, что все, что произошло за последние три года, повторится снова.
США будут продолжать бороться с инфекционными заболеваниями отчасти потому, что некоторые из их наиболее глубоко укоренившихся ценностей противоречат задаче победить вирус. С момента своего основания страна ценит грубый индивидуализм, который ставит во главу угла индивидуальную свободу и ценит уверенность в своих силах. Согласно этому идеалу, люди несут ответственность за свое благополучие, физическая и моральная сила приравниваются, социальная уязвимость является результатом личной слабости, а не политической неудачи, а подачки или советы со стороны правительства нежелательны. Такие идеалы губительны при борьбе с пандемией по двум основным причинам.
Сначала распространяются болезни. Выбор каждого человека неразрывно влияет на его сообщество, и угроза для коллектива всегда превышает угрозу для отдельного человека. Первоначальный вариант Omicron, например, представлял немного меньший риск для каждого зараженного человека, чем варианты, которые ему предшествовали, но распространялся так быстро, что затопил больницы, что значительно увеличило социальные издержки COVID. Чтобы справиться с такими угрозами, необходимы коллективные действия. Правительствам нужна политика, такая как требования к вакцинам или, да, мандаты на ношение масок, которые защищают здоровье всего населения, в то время как люди должны учитывать свой вклад в риск всех остальных наряду со своими личными ставками. И все же с весны 2021 года эксперты высмеивают людей, которые продолжают так думать, за их иррациональность и чрезмерную осторожность, а правительственные чиновники постоянно представляют COVID как вопрос личной ответственности.
Чтобы справиться с такими угрозами, необходимы коллективные действия. Правительствам нужна политика, такая как требования к вакцинам или, да, мандаты на ношение масок, которые защищают здоровье всего населения, в то время как люди должны учитывать свой вклад в риск всех остальных наряду со своими личными ставками. И все же с весны 2021 года эксперты высмеивают людей, которые продолжают так думать, за их иррациональность и чрезмерную осторожность, а правительственные чиновники постоянно представляют COVID как вопрос личной ответственности.
Во-вторых, обстоятельства человека всегда ограничивают его выбор. Людям с низким доходом и представителям меньшинств труднее избегать инфекций или изолироваться во время болезни, потому что они с большей вероятностью живут в переполненных домах и работают с почасовой оплатой без оплачиваемого отпуска или возможности работать удаленно. Такие места, как тюрьмы и дома престарелых, жители которых имеют мало автономии, стали очагами самых тяжелых вспышек. Отношение к пандемии как к индивидуалистическому бесплатному для всех игнорирует то, как трудно многим американцам защитить себя. Это также оставляет людей с уязвимостью, которая сохраняется для последовательных патогенов: группы, которые больше всего пострадали во время пандемии гриппа h2N1 в 2009 г.были теми же, кто принял на себя основной удар COVID десять лет спустя.
Отношение к пандемии как к индивидуалистическому бесплатному для всех игнорирует то, как трудно многим американцам защитить себя. Это также оставляет людей с уязвимостью, которая сохраняется для последовательных патогенов: группы, которые больше всего пострадали во время пандемии гриппа h2N1 в 2009 г.были теми же, кто принял на себя основной удар COVID десять лет спустя.
Индивидуалистические наклонности Америки также сформировали всю ее систему здравоохранения, которая связывает здоровье с богатством и занятостью. Эта система организована вокруг лечения больных людей с большими и расточительными затратами, вместо того, чтобы в первую очередь предотвращать заболевания сообществ. Последнее является прерогативой общественного здравоохранения, а не медицины, и долгое время недофинансировалось и недооценивалось. Даже CDC — ведущее агентство общественного здравоохранения страны — изменило свои рекомендации в феврале, чтобы отдать приоритет госпитализации перед случаями, косвенно допуская инфекции, пока больницы стабильны. Но такая стратегия практически гарантирует, что отделения неотложной помощи будут переполнены быстро распространяющимся вирусом; что, следовательно, медицинские работники уволятся; и что волны хронически больных дальнобойщиков, которые стали инвалидами из-за своих инфекций, будут обращаться за помощью и ничего не получат. Все это уже было и будет снова. Пандемический индивидуализм Америки означает, что ваша работа — защитить себя от инфекции; если вы заболеете, ваше лечение может оказаться недоступным, а если вам не станет лучше, вам будет трудно найти помощь или даже кого-то, кто вам верит.
Но такая стратегия практически гарантирует, что отделения неотложной помощи будут переполнены быстро распространяющимся вирусом; что, следовательно, медицинские работники уволятся; и что волны хронически больных дальнобойщиков, которые стали инвалидами из-за своих инфекций, будут обращаться за помощью и ничего не получат. Все это уже было и будет снова. Пандемический индивидуализм Америки означает, что ваша работа — защитить себя от инфекции; если вы заболеете, ваше лечение может оказаться недоступным, а если вам не станет лучше, вам будет трудно найти помощь или даже кого-то, кто вам верит.
В конце 19 века многие ученые осознали, что эпидемии являются социальными проблемами, на распространение и число жертв которых влияют бедность, неравенство, перенаселенность, опасные условия труда, антисанитария и политическая халатность. Но после появления микробной теории эта социальная модель была заменена биомедицинской и милитаристской, в которой болезни представляли собой простые сражения между хозяевами и патогенами, происходящие внутри отдельных тел.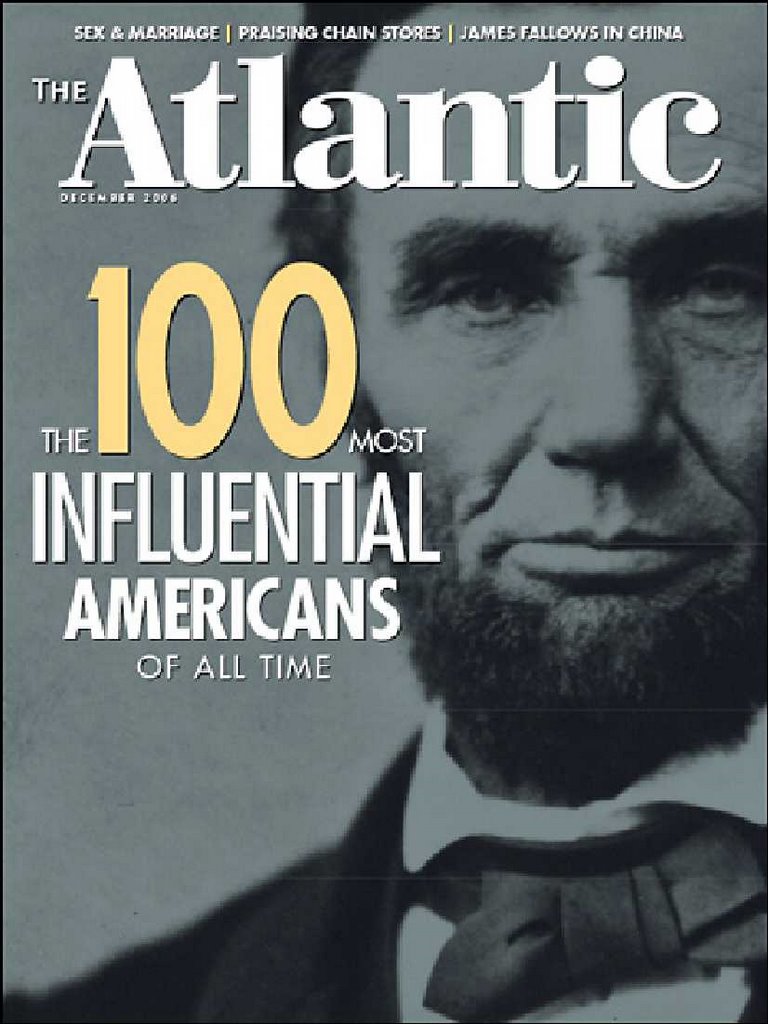 Эта парадигма удобно позволяла людям игнорировать социальный контекст болезни. Вместо того, чтобы решать неразрешимые социальные проблемы, ученые сосредоточились на борьбе с микроскопическими врагами с помощью лекарств, вакцин и других продуктов научных исследований — подход, который легко сочетался с неизменной фиксацией Америки на технологиях как на панацее.
Эта парадигма удобно позволяла людям игнорировать социальный контекст болезни. Вместо того, чтобы решать неразрешимые социальные проблемы, ученые сосредоточились на борьбе с микроскопическими врагами с помощью лекарств, вакцин и других продуктов научных исследований — подход, который легко сочетался с неизменной фиксацией Америки на технологиях как на панацее.
Привлекательность биомедицинских панацей все еще сильна. Более года администрация Байдена и ее советники убеждали американцев в том, что с помощью вакцин и противовирусных препаратов «у нас есть инструменты» для борьбы с пандемией. Эти инструменты действительно эффективны, но их эффективность ограничена, если люди не могут получить к ним доступ или не хотят, и если правительство не проводит политику, меняющую эту динамику. Общество с глубоким неравенством всегда будет бороться с доступом: люди с низким доходом, отсутствием продовольственной безопасности, риском выселения и отсутствием медицинской страховки изо всех сил пытались записаться или посетить приемы по вакцинации, даже после того, как прививки стали широко доступны. Глубоко недоверчивое общество всегда будет бороться с нерешительностью, усугубляемой политической поляризацией и безудержным распространением дезинформации. В результате всего 72 процента американцев завершили свой первоначальный курс прививок и только половина получила первые ускорители, необходимые для защиты от текущих вариантов. В то же время почти все другие средства защиты были сняты, а финансирование COVID испаряется. И все же недавняя стратегия Белого дома по обеспечению готовности к пандемии по-прежнему в значительной степени сосредоточена на биомедицинских волшебных пулях, уделяя мало внимания социальным условиям, которые могут превратить эти пули в ненадежные.
Глубоко недоверчивое общество всегда будет бороться с нерешительностью, усугубляемой политической поляризацией и безудержным распространением дезинформации. В результате всего 72 процента американцев завершили свой первоначальный курс прививок и только половина получила первые ускорители, необходимые для защиты от текущих вариантов. В то же время почти все другие средства защиты были сняты, а финансирование COVID испаряется. И все же недавняя стратегия Белого дома по обеспечению готовности к пандемии по-прежнему в значительной степени сосредоточена на биомедицинских волшебных пулях, уделяя мало внимания социальным условиям, которые могут превратить эти пули в ненадежные.
Технологические решения тоже имеют свойство подниматься в пентхаусы общества, а эпидемии просачиваться в его щели. Лекарства, вакцины и диагностические средства сначала достаются людям, обладающим властью, богатством и образованием, которые затем уходят, оставляя сообщества, наиболее пострадавшие от болезней, продолжать нести свое бремя. Эта динамика объясняет, почему одно и то же неравенство в отношении здоровья сохраняется на протяжении десятилетий, даже когда патогены приходят и уходят, и почему в США сейчас нормализовался ужасающий уровень смертности и инвалидности от COVID. Такие страдания сосредоточены среди пожилых людей, людей с ослабленным иммунитетом, представителей рабочего класса и меньшинств — групп, которые недостаточно представлены среди лиц, принимающих политические решения, и в средствах массовой информации, которым приходится объявлять пандемию оконченной. Даже когда подчеркивается неравенство, знание кажется подавляет действие : в одном исследовании белые американцы чувствовали меньше сочувствия к уязвимым сообществам и меньше поддерживали меры предосторожности после того, как узнали о расовых различиях COVID. Такое отношение саморазрушительно и ограничивает преимущества, которыми пользуются даже самые привилегированные американцы. Меры, которые сгладили бы социальное неравенство, такие как всеобщее здравоохранение и лучшая вентиляция, принесли бы пользу всем — и их отсутствие также вредит всем.
Эта динамика объясняет, почему одно и то же неравенство в отношении здоровья сохраняется на протяжении десятилетий, даже когда патогены приходят и уходят, и почему в США сейчас нормализовался ужасающий уровень смертности и инвалидности от COVID. Такие страдания сосредоточены среди пожилых людей, людей с ослабленным иммунитетом, представителей рабочего класса и меньшинств — групп, которые недостаточно представлены среди лиц, принимающих политические решения, и в средствах массовой информации, которым приходится объявлять пандемию оконченной. Даже когда подчеркивается неравенство, знание кажется подавляет действие : в одном исследовании белые американцы чувствовали меньше сочувствия к уязвимым сообществам и меньше поддерживали меры предосторожности после того, как узнали о расовых различиях COVID. Такое отношение саморазрушительно и ограничивает преимущества, которыми пользуются даже самые привилегированные американцы. Меры, которые сгладили бы социальное неравенство, такие как всеобщее здравоохранение и лучшая вентиляция, принесли бы пользу всем — и их отсутствие также вредит всем. В 2021 году молодые белые американцы умирали реже, чем чернокожие и коренные американцы, но все же в три раза чаще, чем их сверстники в других богатых странах.
В 2021 году молодые белые американцы умирали реже, чем чернокожие и коренные американцы, но все же в три раза чаще, чем их сверстники в других богатых странах.
Не сумев устранить свои социальные слабости, США накапливают их еще больше. По оценкам, 9 миллионов американцев потеряли своих близких из-за COVID; около 10 процентов, вероятно, будут испытывать длительное горе, с которым скудные службы охраны психического здоровья страны будут бороться. Из-за спутанности сознания, усталости и других изнурительных симптомов длительный COVID лишает работы от 2 до 4 миллионов американцев; между потерянными доходами и увеличением медицинских расходов это может стоить экономике 2,6 триллиона долларов в год. Исход медицинских работников, особенно опытных ветеранов, привел к нехватке персонала и ноу-хау в больницах. Уровни доверия — один из наиболее важных показателей успеха страны в борьбе с COVID — упали, что затрудняет развертывание мер по борьбе с пандемией и создает благодатную почву для прорастания дезинформации. Это цена принятия неприемлемого: еще более слабое основание, которое атакует следующая болезнь.
Это цена принятия неприемлемого: еще более слабое основание, которое атакует следующая болезнь.
Весной 2020 года я писал, что пандемия продлится долгие годы и что США потребуются долгосрочные стратегии для ее контроля. Но американские лидеры постоянно вели себя так, как будто они вели стычку, а не осаду, слишком рано отменяя защитные меры, а затем слишком медленно восстанавливая их. Они уклонились от ответственности за то, чтобы сформулировать, как на самом деле будет выглядеть окончание пандемии, а это означало, что всякий раз, когда гражданам удавалось сгладить кривую, купленное ими время было потрачено впустую. Эндемичность приравнивалась к бездействию, а не к активному управлению. Такое отношение устранило любой стимул или волю к долгосрочным изменениям, которые могли бы сократить текущую катастрофу и предотвратить будущие. И поэтому у Америки мало шансов эффективно противостоять неизбежным пандемиям будущего; он даже не может сосредоточиться на том, что продолжается.
Если и произойдут изменения, то, скорее всего, они будут происходить медленно и с нуля. В духе ACT UP — чрезвычайно успешной группы активистов, изменившей отношение мира к СПИДу, — сформировались массовые организации дальнобойщиков, скорбящих, людей с ослабленным иммунитетом и других, несоразмерно пострадавших от пандемии, создав такой активный круг избирателей, который здоровья давно не хватало.
Будут новые пандемии, и США явно не удалось сдержать текущую. Но он не может позволить себе роскошь нигилизма. У него еще есть время, чтобы устранить лежащие в его основе индивидуализм и неравенство, создать систему здравоохранения, которая эффективно предотвращает болезни, а не просто пытается их лечить, и проводить политику, которая по праву ставит во главу угла потребности инвалидов и уязвимых групп населения. Такие изменения кажутся нереалистичными, учитывая непрекращающиеся разочарования последних трех лет, но существенный социальный прогресс всегда кажется невозможным, пока он не будет достигнут. Нормально привело к этому. Еще не поздно создать лучшую норму.
Нормально привело к этому. Еще не поздно создать лучшую норму.
Литература о паранойе Орхана Памука
Действие нового романа Орхана Памука « Ночи чумы » происходит в основном на Мингерии, «сказочном», «потустороннем» и вымышленном османском острове — «жемчужине Восточного Средиземного моря». », — так говорят художники и туристы, очарованные его скалистыми горами и его столицей из розового камня, которая светится, если смотреть издалека. Но за ориенталистской фантазией скрывается микрокосм империи на грани краха. В 1901 году вспыхивает бубонная чума. Памук воспользуется этим, чтобы разоблачить слабости этого политического органа.
Вернувшись в Стамбул, султан отправляет своего главного чиновника здравоохранения, Королевского химика, который оказывается экспертом по карантину. Королевский химик тут же убит. Султан отправляет второго врача, Нури Бея, чтобы раскрыть преступление и снова попытаться сдержать чуму. Но все санитарные меры должны проходить через османского губернатора Мингерии Сами-пашу, радушного хозяина и неугомонного упорца, политикана до мозга костей. Нури Бей недавно женился на племяннице султана принцессе Пакизе, поэтому, когда прибывает королевская чета, губернатор Сами-паша собирает толпу для подходящей церемонии приветствия, будь проклята зараза.
Нури Бей недавно женился на племяннице султана принцессе Пакизе, поэтому, когда прибывает королевская чета, губернатор Сами-паша собирает толпу для подходящей церемонии приветствия, будь проклята зараза.
Чума не беспокоит Сами-пашу; он считает слухи планом по усилению напряженности между соперничающими группами острова, греками и турками. Его также не интересует научный подход к убийству; он просто вызовет 20 подозреваемых в убийстве, чтобы бросить их в тюрьму. Как он говорит Нури Бею: «Даже то, что на первый взгляд может показаться не имеющим никакого отношения к политике, может раскрыть под поверхностью всевозможные заговоры и гнусные намерения».
Памук сказал, что он начал думать о романе о чуме несколько десятилетий назад, начал работу над этим в 2016 году и частично завершил 902:10 Ночи чумы , когда вспыхнул COVID‑19. «Я многое узнал о человеческой глупости во время пандемии», — сказал он журналисту ранее в этом году. Но он не использовал чуму, чтобы говорить о глупости. Что его интересовало, так это карантин, как он объяснил в 2020 году, с его потенциалом взорвать существующие институциональные механизмы.
Что его интересовало, так это карантин, как он объяснил в 2020 году, с его потенциалом взорвать существующие институциональные механизмы.
Блокировки и другие крайне непопулярные судебные запреты — все они происходят в «Чумных ночах» — вызывают беспорядки и могут привести к революции или перевороту, даже к череде переворотов. Располагая роман в то время, когда карантин может означать закрытие продовольственных рынков, сжигание кварталов и загон незащищенных людей в переполненные районы, почти наверняка их убьют, Памук может задать своевременные вопросы о природе государства: когда это помогает? народ вопреки себе, а когда диктатура? А как гражданам узнать разницу?
Чумные ночи — роман, состоящий из трех частей. Каждый изображает этап эволюции Мингерии от колониального владения до независимого государства, а эпидемия выступает в качестве катализатора перемен. Сами-паша представляет османскую имперскую бюрократию буквально — это его работа — и фигурально. Он беспечно относится к правде и небрежно относится к правосудию, но Памук специализируется на изменчивых персонажах и головокружительных изменениях перспективы, и он не собирается делать моральные суждения легкими. Губернатор заискивающе улыбается, пытаясь задобрить то одну, то другую группировку острова — греческих и турецких националистов; религиозные бунтари; шейхи, которые советуют своим последователям использовать молитвенные листы и амулеты, чтобы отогнать чуму, и продолжать омывать своих умерших; иностранные консулы, стремящиеся доставить неприятности османам; судоходные компании, которые лоббируют карантин и наживаются на панике. Он особенно отчаянно пытается угодить своему боссу, султану, который заботится не столько о здоровье мингерцев, сколько об умиротворении европейских держав, которые установили морскую блокаду зараженного острова. Спотыкаясь и отступая, губернатор сеет замешательство и паралич. Но он делает одолжение читателям, проводя их по каждому уголку острова, пока плетет в голове возможные заговоры.
Он беспечно относится к правде и небрежно относится к правосудию, но Памук специализируется на изменчивых персонажах и головокружительных изменениях перспективы, и он не собирается делать моральные суждения легкими. Губернатор заискивающе улыбается, пытаясь задобрить то одну, то другую группировку острова — греческих и турецких националистов; религиозные бунтари; шейхи, которые советуют своим последователям использовать молитвенные листы и амулеты, чтобы отогнать чуму, и продолжать омывать своих умерших; иностранные консулы, стремящиеся доставить неприятности османам; судоходные компании, которые лоббируют карантин и наживаются на панике. Он особенно отчаянно пытается угодить своему боссу, султану, который заботится не столько о здоровье мингерцев, сколько об умиротворении европейских держав, которые установили морскую блокаду зараженного острова. Спотыкаясь и отступая, губернатор сеет замешательство и паралич. Но он делает одолжение читателям, проводя их по каждому уголку острова, пока плетет в голове возможные заговоры.
Как оказалось, настоящих заговоров предостаточно. На церемонии приведения к присяге новобранцев нового карантинного полка губернатору и его окружению подают отравленное печенье. Любой, кто клевещет на султана, немедленно считается агентом-провокатором, работающим на султана, и, вероятно, таковым и является. Подозрения султана делают его опасным, хотя и не безосновательным; он провел свою жизнь, пытаясь предотвратить покушение. Принцесса Пакизе не понаслышке знает, насколько смертоносным может быть султанское недоверие. До замужества она была его пленницей, запертой в замке со своей семьей после свержения предыдущего султана, ее отца. Она думает, что за убийством Королевского Химика стоит ее дядя, и что ей и ее мужу, вероятно, будет нанесен какой-то пока еще неопределенный вред. «Вы не должны так торопиться с выводами!» — говорит Нури Бей. Он один из немногих, кто верит в индуктивный метод — прямо как Шерлок Холмс, любит он говорить.
Паранойя — великая тема Памука и двигатель его стиля. Он заставляет вас читать сквозь призму подозрений и сомнений. Ни факт, ни предыстория никогда не бывают тем, чем кажутся. «Существует литература паранойи», — написал Памук, добавив, что это то, что он пишет. Если его романы обладают постмодернистским качеством сопротивления завершенности, если они расстраивают то, что Ролан Барт называл «страстью к смыслу», то это потому, что на всем протяжении есть сюжеты и контрсюжеты. Он настоящий писатель эпохи постправды.
Он заставляет вас читать сквозь призму подозрений и сомнений. Ни факт, ни предыстория никогда не бывают тем, чем кажутся. «Существует литература паранойи», — написал Памук, добавив, что это то, что он пишет. Если его романы обладают постмодернистским качеством сопротивления завершенности, если они расстраивают то, что Ролан Барт называл «страстью к смыслу», то это потому, что на всем протяжении есть сюжеты и контрсюжеты. Он настоящий писатель эпохи постправды.
Когда Памук называл себя писателем-параноиком, он называл других мастеров жанра — Достоевского, Борхеса, Эко, Пинчона — и потом говорил, что имеет перед ними некоторое преимущество, поскольку вырос в стране, которая «присвоила паранойю как форму существования». Он имел в виду, конечно, Турцию, страну политического хаоса, военных переворотов (четыре с тех пор, как родился Памук, в 1952), и частый фурор по поводу антиправительственных заговоров. Как правило, это теневые сети, многие из которых состоят из высокопоставленных чиновников в аппарате государственной безопасности, фанатично преданных модернизирующемуся первому президенту Турции Мустафе Кемалю Ататюрку. Не случайно термин «Глубинное государство » возник в Турции.
Как правило, это теневые сети, многие из которых состоят из высокопоставленных чиновников в аппарате государственной безопасности, фанатично преданных модернизирующемуся первому президенту Турции Мустафе Кемалю Ататюрку. Не случайно термин «Глубинное государство » возник в Турции.
У Памука больше причин для паранойи, чем у большинства граждан Турции. В 2005 году — за год до того, как он получил Нобелевскую премию — его судили за «очернение турецкости», что является преступлением, за упоминание геноцида армян в интервью швейцарскому журналу. Он выдержал показательный процесс, во время которого кричащие толпы бродили по зданию суда и нападали на его машину. (Дело в конечном итоге было прекращено.) На момент написания этой статьи он находится под следствием по обвинению в еще одном преступном акте клеветы: оскорблении Ататюрка в Nights of Plague , опубликовано в Турции в 2021 году.
Попытка определить силы, стоящие за продолжающимся преследованием Памука, подобна попытке нанести на карту бесконечные регрессии в его романах, только сложнее. Например (потерпите меня): в 2021 году Таркан Юлюк, ультраконсервативный юрист, подал жалобу на Памука, положившую начало последнему расследованию. Еще в 2010 году Юлюк создал политическую партию под названием «Эргенекон». За два года до этого исламистское правительство тогдашнего премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана разоблачило предполагаемую тайную террористическую организацию, которая, как утверждалось, готовила государственный переворот. Эта группа была также известна как «Эргенекон», и, похоже, она нацелилась на Памука для убийства. ( Эргенекон — имя из популярного среди националистов турецкого мифа; это относится к волшебному месту глубоко в Алтайских горах.)
Например (потерпите меня): в 2021 году Таркан Юлюк, ультраконсервативный юрист, подал жалобу на Памука, положившую начало последнему расследованию. Еще в 2010 году Юлюк создал политическую партию под названием «Эргенекон». За два года до этого исламистское правительство тогдашнего премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана разоблачило предполагаемую тайную террористическую организацию, которая, как утверждалось, готовила государственный переворот. Эта группа была также известна как «Эргенекон», и, похоже, она нацелилась на Памука для убийства. ( Эргенекон — имя из популярного среди националистов турецкого мифа; это относится к волшебному месту глубоко в Алтайских горах.)
Были ли у Памука враги с убийственными намерениями? Он так подумал и обзавелся телохранителями. Были ли враги частью тайной сущности под названием Эргенекон? По мере расширения круга так называемых заговорщиков и накопления сообщений о нарушениях прав критики администрации Эрдогана стали называть «заговор «Эргенекон» предлогом для задержания его противников. Может быть, это была даже выдумка, хотя никто не сомневается, что в Турции существуют насильственные, тайные, ультранационалистические группировки. Заговор? Контрзаговор? Оба? Невозможно сказать.
Может быть, это была даже выдумка, хотя никто не сомневается, что в Турции существуют насильственные, тайные, ультранационалистические группировки. Заговор? Контрзаговор? Оба? Невозможно сказать.
Услышав обвинение против Nights of Plague , трудно сопротивляться желанию вынести решение по делу, даже если это придает легитимность закону, поддерживающему диктатуру. Факсимиле литературного аргумента в жалобе, каким бы гротескным он ни был, имеет свое применение. Это дает нам почувствовать атмосферу угрозы, которая наверняка окружает Памука, когда он садится за работу. И понимание политических и правовых ограничений, которые он должен обойти, помогает объяснить уловки и сложности, которые делают его произведения тревожными и часто забавными, но в то же время трудными для восприятия.
Итак, вот: это герой второй части Чумных ночей , майор Камиль, против которого возражает Юлюк, говоря, что он «издевается над фигурой Ататюрка». И этот кусок романа мультяшный. Эмигрант-майор возвращается в Мингерию в качестве телохранителя принцессы. Чума опустошила улицы от всего, кроме тел. Султан засыпает Сами-пашу телеграммами, противоречащими его усилиям по обеспечению соблюдения карантина. Итак, майор берет на себя задачу обстрелять почту, чтобы остановить весь обмен телеграммами. После этого он случайно начинает удивительно короткую войну за независимость: единственная сцена в стиле спагетти-вестерн во время встречи в роскошном новом Государственном зале Мингерии. Важный шейх на собрании пропускает весь переворот, потому что он находится в ванной, осматривая знаменитые «типично европейские» унитазы.
Эмигрант-майор возвращается в Мингерию в качестве телохранителя принцессы. Чума опустошила улицы от всего, кроме тел. Султан засыпает Сами-пашу телеграммами, противоречащими его усилиям по обеспечению соблюдения карантина. Итак, майор берет на себя задачу обстрелять почту, чтобы остановить весь обмен телеграммами. После этого он случайно начинает удивительно короткую войну за независимость: единственная сцена в стиле спагетти-вестерн во время встречи в роскошном новом Государственном зале Мингерии. Важный шейх на собрании пропускает весь переворот, потому что он находится в ванной, осматривая знаменитые «типично европейские» унитазы.
Теперь мы переходим от фарса к пародийной эпопее. Майор («человек, действия которого вскоре изменят судьбу всего острова») становится первым президентом суверенного государства Мингерия. Он выходит на балкон и машет флагом (на самом деле баннером, рекламирующим товары личной гигиены) перед зачарованными зрителями. Прогулка майора к балкону быстро превращается в картину маслом, созданную по образцу картины Делакруа «Свобода, ведущая народ ». 30-е годы». Два дня спустя майор произносит речь, заявляя: «Я мингерец!» Ее «будут вспоминать с любовью и со слезами на глазах читать все жители Мингерии и все, кто ходил в школу на острове».
30-е годы». Два дня спустя майор произносит речь, заявляя: «Я мингерец!» Ее «будут вспоминать с любовью и со слезами на глазах читать все жители Мингерии и все, кто ходил в школу на острове».
Майор Камиль издевается над Ататюрком? Знание того, что Памуку пришлось предвидеть этот вопрос, придает зловещему тону этих глав иной резонанс. Правда, в некоторых деталях майор похож на покойного президента. Ататюрк вел войну за независимость и произнес знаменитую речь, заученную школьниками. Его культ породил горы китча — пуговицы Ататюрка, часы, наклейки на бамперы, футболки, туфли. Даже через 84 года после его смерти его фотографии появляются на витринах магазинов, ресторанов и частных домов. Ататюрк также возглавил одну из самых радикальных культурных революций в истории, известную как кемализм. Он возродил мифы доисламской эпохи Турции, перевел турецкий алфавит с исламского письма на латиницу и запретил фески и тюрбаны в пользу западных головных уборов, а также галстуков и костюмов.
Нечто подобное делает майор: возрождает мингерский язык, возрождает мингерские мифы, переименовывает улицы. Но на этом сходство заканчивается. По темпераменту и характеру вымышленный основатель современной Мингерии и «Отец Тюрк» (буквальный перевод Ататюрк ) занимают разные нравственные вселенные. Майор Камиль — любитель, милый, идеалистичный и безразличный к своим президентским обязанностям. В то время как члены его администрации наблюдают за набегом на мусульманскую секту, которая сопротивляется карантину, майор задерживается в своем дворце, чтобы исследовать мингерские имена для ребенка, которого его жена собирается родить. Вместо этого она заболевает чумой, и майор держит ее на руках, пока она не умирает, а затем умирает сам. Ататюрк, напротив, был профессионалом с самого начала, блестящим политиком и, в конечном счете, безжалостным деспотом. Он бы не пошел на мученическую смерть из-за любви.
Но на этом сходство заканчивается. По темпераменту и характеру вымышленный основатель современной Мингерии и «Отец Тюрк» (буквальный перевод Ататюрк ) занимают разные нравственные вселенные. Майор Камиль — любитель, милый, идеалистичный и безразличный к своим президентским обязанностям. В то время как члены его администрации наблюдают за набегом на мусульманскую секту, которая сопротивляется карантину, майор задерживается в своем дворце, чтобы исследовать мингерские имена для ребенка, которого его жена собирается родить. Вместо этого она заболевает чумой, и майор держит ее на руках, пока она не умирает, а затем умирает сам. Ататюрк, напротив, был профессионалом с самого начала, блестящим политиком и, в конечном счете, безжалостным деспотом. Он бы не пошел на мученическую смерть из-за любви.
Памук дал майору правдоподобное отрицание. Но Nights of Plague — это безошибочно сатира и аллегория. Его язвительные нападки на османский, революционный и националистический стили руководства действительно равносильны критике Ататюрка, кемализма и даже правительства президента Эрдогана, только не в одном персонаже.
Чтобы разобрать роман Памука, нельзя ориентироваться исключительно на сюжет. Вы должны обратить пристальное внимание на то, как рассказана история. Памук помещает вымыслы в метапрозы: его рассказчики объясняют, как они нашли письма или рукопись, на которых они будут основывать свой рассказ, только чтобы подорвать это утверждение небрежными откровениями и резкими изменениями тона. К концу романа Памука леса, установленные в начале, обычно рушатся, оставляя читателей висеть в воздухе.
Поэтому нас не должно удивлять, что рассказчик « Ночей чумы », современный историк Мингерии с диккенсовским именем Мина Мингер, которая поначалу кажется относительно нормальной, становится все более сумасшедшей. Она говорит, что пишет исторический роман, но периодически забывает, что выдумывает, и педантично цитирует источники. Она окутывает все мингерское плащом сияния, особенно майора, за исключением тех случаев, когда она позволяет ему упасть. Она пишет, что его любили как отца еще до восстания: «Люди, выглядывавшие из окон на улицу, часто впечатлялись видом майора, идущего мимо в мундире, и чувствовали, что ему можно доверять». Но через несколько страниц они «издеваются над ним, или дразнят его, или делают вид, что проявляют уважение, только для того, чтобы в следующий момент насмехаться над ним».
Но через несколько страниц они «издеваются над ним, или дразнят его, или делают вид, что проявляют уважение, только для того, чтобы в следующий момент насмехаться над ним».
В последней трети романа рассказывается о правлении силачей в Мингерии, и в центре внимания оказывается давление, искажающее повествование. После смерти майора и последовавших за ним двух недолговечных администраций остров переходит под власть одного правителя на 31 год. Это Мазхар Эффенди, который служил «главным инспектором» — главным шпионом — во времена Сами-паши. Он поднимается на пост президента в результате настолько тонкого переворота, что его почти не замечают.
Президент Мазхар укрепляет власть, превращая историю майора Камиля в миф о происхождении и изощренную националистическую идеологию. На инаугурации президента Мазхара, «самом тщательно организованном политическом конкурсе… в истории острова», студенты размахивают мингерскими флагами, а деревенские девушки исполняют мингерские народные танцы в мингерских костюмах. Позже он распространил тысячи фотографий майора и его жены. Многократно приукрашенный рассказ об их романе и браке входит в детские книги и учебники: если президент Мазхар сможет представить себя хранителем наследия майора, ему сойдет с рук все, что он захочет.
Позже он распространил тысячи фотографий майора и его жены. Многократно приукрашенный рассказ об их романе и браке входит в детские книги и учебники: если президент Мазхар сможет представить себя хранителем наследия майора, ему сойдет с рук все, что он захочет.
Чего он хочет, так это консолидировать власть, и по этому поводу Мина Мингхер откровенно ожесточается. «Те, кто высказывали сомнения по поводу этих мифов, предполагали, что они могут быть придуманы, или даже просто шутили над их преувеличениями, часто оказывались в тюрьме», — отмечает она. Действительно, президент Мазхар «использует тюрьмы, трудовые лагеря и другие подобные методы, чтобы подчинить себе либералов острова, его протурецкие и прогреческие группировки… и он также соберет мощную армию». Восемь десятилетий спустя его преемники выгнали Мингхера с острова на 21 год. Возможно, она была слишком резкой в своих протестах против режима; возможно, она совершила другие правонарушения. В любом случае она возвращается, и в книге, которую она заканчивает в 2017 году, она тщательно отдает дань уважения культу майора и славному государству Мингерии.
Короче говоря, раздел 3 переформулирует раздел 2. В ретроспективе беспорядочная проза Мингера выглядит как превентивная самооборона. То же самое можно сказать и о уклончивом стиле Памука. В пресс-релизе, выпущенном его турецким издателем после того, как Nights of Plague подверглись нападкам, Памук говорит, что майор «является героем многих добродетелей, которого любит публика», и поэтому он не хотел высмеивать покойного президента Турции. . Может быть. Или, может быть, Памук обманом заставил своих мучителей трахнуть не того парня. Понимают ли они, что авторитарный президент Мазхар является лидером, который ближе всего подходит к оскорблению Ататюрка? Ведь они как Ататюркских самодержцев. Мы можем быть уверены, что им не хватает ловкости, чтобы понять, что романы рассказывают их истории под углом. Как отличить законное правительство от диктатуры? Памук построил лабиринт вокруг ответа, и это сам по себе ответ.
Эта статья появилась в печатном издании за ноябрь 2022 года под заголовком «Литература о паранойе».
Чем Ян отличается от других ураганов
Это издание из The Atlantic Daily, информационный бюллетень, который знакомит вас с самыми важными событиями дня, помогает открывать новые идеи и рекомендует лучшее в культуре. Зарегистрируйтесь здесь .
Вчера днем ураган Ян обрушился на Флориду как шторм категории 4, вызвав сильный ветер, сильный штормовой нагон и историческое внутреннее наводнение по всему штату. Президент Джо Байден объявил о первых сообщениях о «существенных человеческих жертвах».
Но сначала три новых истории из The Atlantic .
Неопределенный путь
Спустя немногим более 24 часов после того, как ураган Ян обрушился на юго-запад Флориды, многое остается неизвестным. Но картина складывается, и она мрачная.
«Это может быть самый смертоносный шторм в истории Флориды, — сказал Байден репортерам сегодня днем на пресс-конференции в штаб-квартире FEMA в Вашингтоне, округ Колумбия. жизни.”
жизни.”
Иэна делает исключительным не только его сила, но и общая непредсказуемость. По прогнозам шторма в понедельник, Ян приземлился прямо в районе залива Тампа; вместо этого он попал примерно в 75 милях к югу. Но дело не только в том, куда движется буря, но и в том, как она движется. По мере того, как Йен менял курс, она резко усиливалась — и быстро.
А вот что происходит за пределами прямой точки удара бури. Ураганы, которые обрушиваются на сушу, технически движутся вдоль побережья, но они могут вызвать сильные штормовые волны и внутри страны. Именно это произошло с Яном — и то, что было так трудно предвидеть заранее, чтобы эвакуировать как можно больше жителей. Сообщения о смене направления шторма, возможно, также удержали некоторых жителей от эвакуации, даже когда стало ясно, что они, вероятно, попадут на пути Яна. Как пишет мой коллега Робинсон Мейер, когда метеорологи с уверенностью предсказывают быстрое усиление шторма, они не всегда эффективно сообщают общественности о его рисках. В густонаселенных регионах, таких как побережье Мексиканского залива во Флориде, такая конвергенция переменных может быть особенно разрушительной.
В густонаселенных регионах, таких как побережье Мексиканского залива во Флориде, такая конвергенция переменных может быть особенно разрушительной.
На сегодняшнее утро более 2,6 миллиона потребителей электроэнергии во Флориде по всему штату остались без электричества. Шторм также серьезно повредил дамбу Санибел и мост Пайн-Айленд, разорвав наземное сообщение с двумя барьерными островами. Сегодня утром губернатор Флориды Рон ДеСантис дал серьезную оценку ущерба, нанесенного ураганом. «Вы видите бурю, которая изменила характер значительной части нашего штата, и для этого потребуются… годы усилий, чтобы иметь возможность восстановиться, вернуться», — сказал он. Шериф округа Ли, в который входит популярный курортный город Форт-Майерс, сообщает, что сотрудники службы экстренной помощи в этом районе получили тысячи 911 звонков и не в состоянии справиться с количеством нуждающихся.
Местные власти осматривают повреждения жилья и инфраструктуры, ведутся поисково-спасательные работы. Президент Байден одобрил оказание крупной помощи жителям Флориды в девяти округах при стихийных бедствиях, включая гранты на временное жилье, ремонт дома и недорогие кредиты для покрытия незастрахованных имущественных потерь.
Президент Байден одобрил оказание крупной помощи жителям Флориды в девяти округах при стихийных бедствиях, включая гранты на временное жилье, ремонт дома и недорогие кредиты для покрытия незастрахованных имущественных потерь.
После того, как сегодня утром его статус понизился до тропического шторма, Ян восстановил скорость и, на момент написания этой статьи, был реклассифицирован как ураган категории 1. Ураганные ветры ожидаются на побережье Южной Каролины, начиная с завтрашнего дня, и ураганные условия остаются вероятными для северо-восточной Флориды и Джорджии. Поскольку шторм продолжается вдоль побережья на север, предупреждение об «опасности опасного для жизни штормового нагона» действует до завтра вдоль побережья северо-востока Флориды, Джорджии и Южной Каролины. Флорида, Джорджия, Южная Каролина, Северная Каролина и Вирджиния остаются в чрезвычайном положении.
Связанный:
- Ранние фотографии урагана Йен, обрушившегося на берег во Флориде
- Честно? Связь между изменением климата и ураганами сложна.

Сегодняшние новости
- В выступлении, переданном по государственному телевидению, Владимир Путин заявил, что российское правительство допустило «ошибки» при реализации его недавнего проекта, вероятно, в ответ на гнев и общественные протесты, которые возникли по всей России. .
- Шесть человек получили ранения вчера в результате стрельбы на территории школьного кампуса в Окленде, штат Калифорния. Все пострадавшие были старше 18 лет.
- Сенат проголосовал за продление государственного финансирования, чтобы предотвратить закрытие в конце этой недели.
Последующие действия: в марте Дэвид Френч написал о «совершенно безумных» текстах, поддерживающих теории предвыборного заговора, которыми Джинни Томас обменивалась с Марком Медоузом в течение нескольких недель после выборов 2020 года. Сегодня Томас, жена судьи Верховного суда Кларенса Томаса, встретилась с комитетом Палаты представителей по расследованию теракта 6 января.
Отправки
- В процессе : Учителя и профессора рассказали Дереку Томпсону, что американцы неправильно понимают в своей профессии.
- Готов к обсуждению : Конор Фридерсдорф предлагает нестандартное решение мировых миграционных проблем.
Вечернее чтение
(Тибо Брюне)Что-то странное происходит, когда вы разрываете этих существ на части
Кэтрин Дж. Ву
Когда люди умирают, все наше тело умирает вместе с нами. Сердце перестает качать; кишечник перестает переваривать; каждая клетка, несущая генетическую схему человека, в конце концов гаснет, пока не исчезнет их молекулярная подпись. Это проклятие многоклеточного строения людей — а точнее большинства 90 210 животных, 90 211 — клеток: клетки в наших телах настолько специализированы, настолько взаимозависимы, что их судьбы связаны друг с другом даже после смерти.
Однако многоклеточность не обязательно должна проявляться таким образом.
Всего в прыжке, прыжке и перепрыгивании от нас на дереве жизни находятся хоанофлагелляты — маленькие морские и пресноводные существа размером примерно с дрожжи. Хоанофлагелляты обычно выглядят как одиночные клетки с длинным хлыстящим хвостом, выпуклой головой и оборчатым воротником, напоминая, как примечательно описал мой коллега Эд Йонг, «сперматозоид в юбке». Но при правильных условиях хоанофлагелляты могут также расцвести в многоклеточные тела, соединяя отдельные клетки в единые образования, которые при некотором прищуривании и воображении имеют любопытное сходство с телами животных.
Читать статью полностью.
Еще из The Atlantic
Культурный перерыв
(Netflix / Amazon / Hulu / FX / Apple TV+ / Facebook Watch / Channel 4 / The Atlantic)Читать. « Go Ahead in the Rain » Ханифа Абдурракиба, смесь музыкальной критики и мемуаров, которая чтит фэндом, исследуя его.
Или попробуйте что-нибудь еще из нашего списка книг, которые любители музыки должны прочитать.